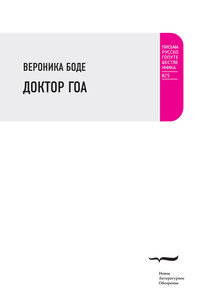На пути в Итаку | страница 79
Он снова, уже с другой стороны, выходит на площадь Старого города и видит эталонную для туристских кварталов любого европейского города пару: иностранец (испанец, а может, француз) с сопровождающей его переводчицей. Высокий, сухощавый, черноволосый мужчина в коричневой меховой курточке, белом шарфе и черных перчатках, но с непокрытой головой слушал молодую женщину в длинной дубленке с капюшоном. Женщина обводила рукой площадь, объясняя что-то, и мужчина поворачивал голову, ведомый движением ее руки. И в тот момент, когда он проходит мимо, пани замолкает, испанец (или француз) открывает рот, и он вдруг слышит, но — уже в мужском исполнении — свободную, с природной беглостью текущую польскую речь. Все, думает он, поднимаю руки.
Пыхтящий в углу площади крохотный снегоуборочный трактор напоминает ему фыркающую на морозе лошадь.
Странное ощущение, для которого никак не подобрать формулировки.
В общем-то Европа но странно уютная, как будто обжитая. Где и когда? В кино? Да. Но и…
Почему-то непроизвольно вспоминаются дедушка и бабушка с их полурусской-полукраинской речью. Или…
Ладно, останавливал он себя, не торопись формулировать. Просто смотри.
Выйдя из кварталов Старого города и пройдя вдоль ампир-ного дворца за кованой оградой, потом — сквозь улицу с потемневшими, кирпичной кладки домами (пахнуло чем-то фабрично-питерским), минут через пять он оказывается на треугольной площади со скверами и блочными домами на той стороне, точнее — автомобильной развязке с зевом тоннеля, из которого выносятся новенькие автомобильчики, покрытые тонким слоем грязи. Снегопад прекратился. Небо посветлело, и уже наставший как бы вечер отступил — продолжался серый день. Безлюдная площадь-сквер томит архитектурным безвременьем. И он как будто сразу устает от этой неоформленности пространства. Он останавливается у кромки дороги, пережидая поток машин, и только в этот момент видит почему-то не замеченный им сразу памятник: каменная женщина на стеле с поднятым мечом. Тысячу раз виденный силуэт, один из символов послевоенной Варшавы. Женщина на него не смотрит. Голова запрокинута. Перейдя улицу, он подходит поближе — польские слова, которые он смог разобрать на табличке, сообщают, что это памятник погибшим в Варшавском восстании. Вот этого он не знал. «Варшава» — женского рода? И скорбь, и ненависть, и жажда мщения — это все тоже женского рода? То есть проявления женственности? Странный какой памятник, подумал он, ощутив вдруг мурашки по коже. Как будто изнутри откуда-то выхлестнула траурная шопеновская фраза. Изнутри чего?