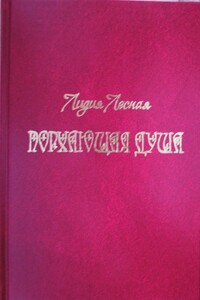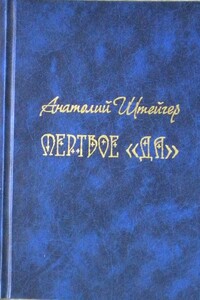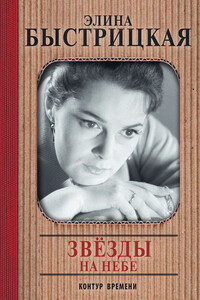Темный круг | страница 36
И старик задумался.
Потом решительно махнул рукой:
— Нет, пропадай! Украсть — не украдешь. Засыпешься. Пропадай!
* * *
Закоптелый переносный фонарь «летучая мышь», зажженный Глюковым, — и лошадь и человека мгновенно превратил в тени, огромные, странные, лошадь стала похожа на человека, человек на лошадь… какие-то допотопные чудища — человеко-кони — кентавры.
Мускат, при Санько не пугавшийся этих теней и даже мало замечавший их, теперь остро и преувеличенно их видит и пугается.
Вот старик вышел из конюшни, и хорошо слышно Мускату (слух его особенно обострился), четко слышно, как конюх осторожно отворяет задние ворота в степь, на знакомый выгон.
И дрогнуло сердце кабардинца — и на этот раз радостной надеждой: степь! Степь широкая, как небо, и вольная, как ветер, степь!
Старик скоро возвратился, бормоча что-то непонятное, но недоброе, что своим необманным инстинктом почувствовал Мускат.
И снова ужас охватил его.
Насквозь, до глиняного пола, пробивают соломенную подстилку «говорящие» ноги кабардинца — бьют тревогу…
Старик в стороне присматривается к коню.
— Дастся ли?
Глаза взблескивают тревогой.
Потом он три раза крестится…
* * *
Августовская ночь, необычайно туманная, беззвездная, затопила степь.
Глюков верхом на коне в степи. Пиявкой присосался к коню, но еле сдерживает пугающуюся лошадь.
Старик пытается быть ласковым
— Мускат! Мускат! Цо-цо…
Но конь не воспринимает ласки: злобное шипение слышится ему в хриплом шепоте. И давит туманный мрак и глухое молчание степи. Раньше не испытывал этого кабардинец. Санько, бывало, выводил его в степь — на обильные ночные росы. И как чутко прислушивался тогда Мускат к тонкому взвизгиванию невидимых кобылиц в тумане. С низких и сочно-травных луговин неслось это широкое и призывное ржанье — сытое, ядреное и волнующее.
Как были хороши эти голоса кобылиц в степи. Как хорошо было ему тогда с Санько.
И вдруг!.. Он слышит — вот оно — кобылиное ржанье. Это его, кабардинца, зовет кобылица в теплом туманном мраке на продолжение неистощимого рода могучей и прекрасной коньей жизни. И Санько там. Не может не быть Санько там, где степь, где коньи табуны. Вот и желток огня — «ночное» — пушисто замахровел вдали — в густоте тумана.
И Мускат гремящей трубой раздул горячие ноздри. Упругим торчком поставил стрельчатые уши. И с силой рванулся и взвился на дыбы. Стало сразу легко. Только что-то сопит и дышит у его ног. Еще миг — и растоптал бы эту гадину стальными ногами Мускат…