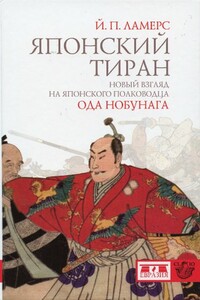Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. | страница 101
Изучение правового статуса городов Великого княжества начнем с порубежных княжеских городков, отчасти уже знакомых нам по предшествующему изложению. Но тогда нас интересовали князья — владельцы этих городков, а теперь речь пойдет об их населении. С севера на юг вдоль всей русско-литовской границы располагались в конце XV в. княжеские города: Белая, Хлепень, Вязьма, Мосальск, Мезецк, Воротынск, Белев, Одоев, Стародуб, Гомель, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов, Карачев (эти два — с 1496 г.) и Любеч. К сожалению, сведения о внутренней жизни этих городов очень скудны: источники, которыми мы располагаем, — акты Литовской метрики (т. е. великокняжеской канцелярии), посольские книги, летописи — показывают княжеские городки почти исключительно с внешней стороны. Но при тщательном анализе и из этих скудных данных можно извлечь ценную информацию.
Прежде всего бросается в глаза, что, в случае если какой-либо из перечисленных выше городов подвергался нападению, протест по этому поводу заявлялся от имени князя-владельца, а не от лица горожан. Так, князья Мезецкие жаловались на нападение на их город слуг великого князя Московского, кн. Михаил Вяземский — на захват его города Хлепня, Дмитрий и Семен Воротынские — на разорение их города и т. д.[645] Иногда протест московской стороне заявлялся от имени самого господаря — так было с г. Мосальском[646], над которым, как было показано выше, местные князья фактически утратили контроль. С другой стороны, вина за нападения и грабежи опять-таки возлагалась на соответствующих князей (Воротынских, Одоевских и др.), а не на их подданных. Таким образом, жители порубежных княжеских городков не имели в пограничных делах собственного голоса, не рассматривались как самостоятельная сила, субъект отношений.
Не заметно, однако, чтобы с интересами горожан сколько-нибудь считались во внутренних делах. Многие из упомянутых городов были поделены между княжеской братией: г. Одоев был разделен пополам между двумя линиями местной княжеской династии[647]; та же участь постигла г. Трубчевск[648]; по «дольницам» владели князья Мезецком[649] и Вязьмой[650].
Естественно, землей, прилежащей к городу, распоряжались опять-таки князья, а не горожане, а во многих уделах, как мы уже знаем, местные владельцы разделяли это право с господарем. Так, еще в 40-х гг. XV в. Казимир пожаловал некоему Ивану Рудаку «за Мезецком место пустое»[651]. Но вот что интересно: контролируя территорию ряда уделов (за исключением владений кн. Новосильских), великокняжеская власть не установила никаких контактов с населением княжеских городков. В актах Метрики не зафиксировано ни одного случая апелляции к господарю, жалобы на своего князя жителей Мезецка или Мосальска, Стародуба или Гомеля. Между тем население не только великокняжеских городов, но и некоторых частновладельческих (вроде Пинска), как мы увидим, искало защиты и справедливости у господаря. Стало быть, для выяснения статуса того или иного города недостаточно только знать, принадлежал ли он частному владельцу или великому князю: важно выяснить, что собой представляла данная городская община. А что нам известно о составе населения порубежных княжеских городков?