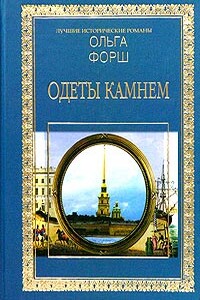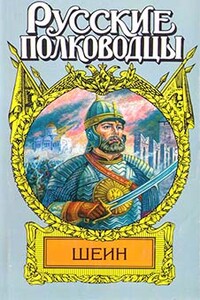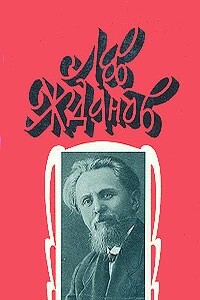Радищев | страница 34
Радищев сидел у окна за столом в комнате Ушакова и, как это у него от долгих дежурств вошло в обыкновение, чтобы не делать лишнего шума, пока не потребуется его услуг, он, очинив новое перо, стал продолжать запись своих мыслей и чувств в дневнике:
«…Никакие родители, ниже́ наставники и книги не могли бы столь пронзительно запечатлеть в наших сердцах правила справедливой жизни, как сей юный мудрец, созревший в муках. Хотя сие есть правило натуры, что всякое зерно лишь гибелью собственной создает урожай новых колосьев, но возмущение подъемлет все мои чувства при одной пропозиции, что подобное жестокое условие должно иметь место и в заражении людьми друг от друга добродетелью. Но ежели так… пусть гибель дорогого друга не останется втуне! Пусть перерождает прохладные ленивые чувства в опаляющий пламень! Пусть уязвляющая скорбь этой гибели…»
— Саша! — позвал Ушаков.
Радищев кинулся к другу. Привстав, сколько позволяли силы, на подушках, Федор Васильевич смотрел в окно, где в беспредельность уходили поля и рощи и золотом горели на солнце остроконечные шпицы немецких строений.
— Саша, хочу в рощицу, сведи меня вместе с Мишенькой.
Федор Васильевич говорил слабым, но ясным голосом, горя темно-синими, непомерно большими от худобы глазами.
— У меня опять жар, значит подъем сил, и смогу, опираясь на ваши плечи, добресть…
Радищев хотел было сказать по привычке, что ежели жар, то тем более вредно, но Ушаков предупредил его легкой улыбкой:
— Медикусу не говори — будет жужжать, аки шмель. А мне что с жаром, что без жара… в последний-то раз!
Радищев поспешил выйти, скрывая волнение, позвал Кутузова и Мишеньку. И они поняли; не возражая, одели бережно друга и, пользуясь тем, что все начальствующие и телохранители глазели на курфюрстов парад, на руках вынесли Ушакова к любимому его ручейку в ближайшую рощицу…
Федор Ушаков поддерживал свою молодую уходящую жизнь одной бешеной волей и гордым сознанием, что человек должен умереть, когда сам решит, а не когда его невзначай скосит смерть. Чем более изнемогало тело, тем возбужденнее в голове были мысли. Так на сраженном бурею дереве при засохших корнях могучей зеленью зацветает верхушка.
Быть может, рассуждения Федора Васильевича носили характер слишком книжный, но для товарищей его они были убедительней заученной латыни отца Павла, волнительней почтенной, отстоявшейся, не связанной с жизнью морали Геллерта.
Федор Васильевич ушел с пути несомненных удач, наград и восхождения по службе, имея одну мысль, одно стремление — расширить и углубить свои познания в науках. Когда Екатерина послала в Лейпциг двенадцать пажей для обучения юриспруденции, он упросил приписать и его «сотовариществовать юношам».