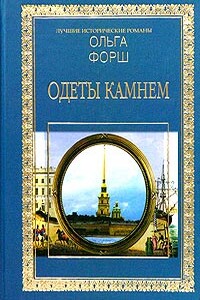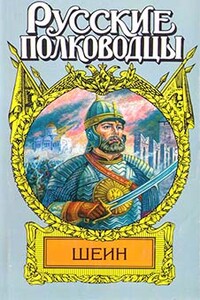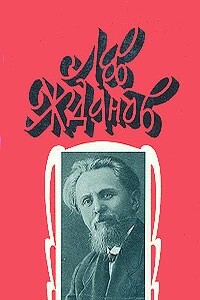Радищев | страница 33
Внутри самого Парнаса находилась комнатка, где помещался в большой тесноте оркестр. Он тоже весь состоял из студентов и столь отменно играл, что карета остановилась и курфюрст с курфюрстиной слушали музыку, высунув из окошка августейшие головы.
Под салют выстрелов, под крики «Salve!», извергаемые глотками горожан, студенты от имени университета поднесли курфюрсту в подарок ценный серебряный кубок.
Дворянство подымало два пальца в знак присяги в Хофштубе — крепости Плейсенбург, а бюргеры подымали два пальца на Марктплаце.
Когда курфюрст въехал на площадь, ему предшествовали двести рыцарей с обнаженными, на солнце сверкавшими саблями. Гайдуки гарцевали на вороных конях вокруг его белой, без пятнышка, лошади. Вдоль кортежа шпалерами шествовали горожане в так называемых «кафтанах присяги», при желтых лентах на шляпах и шарфах. Почтенные отцы города подали бюргермейстеру просьбу разрешить им заменить на Марктплаце стражу, расставленную в шахматном порядке. И пока длился в ратуше грандиозный обед, заданный курфюрсту Лейпцигом, отцы города, чередуясь на часах, верноподданно потели.
Студенты, игравшие в недрах Парнаса, были извлечены в пышный зал и сопровождали бесконечные блюда все той же, заслужившей высочайшее одобрение, музыкой. В заключение обеда был подан замечательный торт, столь почтенных размеров, что внесли его два повара с поваренком. Торт сооружен был, искусством прекрасных горожанок, из миндального марципана. Он изображал площадь города, полную сахарных граждан с поднятой для присяги правой рукой.
— Совсем как живые! — воскликнула курфюрстина, оглядывая с умилением своих сладких подданных.
— Они настолько живые, — подтвердил с улыбкой курфюрст, — что мы, из страха прослыть людоедами, их вовсе кушать не станем, а свезем на память домой и поставим под стеклянный колпак.
Бюргермейстер провозгласил высочайшую здравицу, ружья бахнули, и начались долгие возлияния…
Русская колония вместе с коллегами университета была на Марктплаце и немало веселилась лицезрением толстых отцов города на часах…
В общежитии около больного Федора Ушакова оставались немногие. Среди них — Радищев, Алексей Кутузов и Мишенька, брат больного.
Федор Васильевич чутко дремал. Лицо его, продолговатое, той прозрачной бледности, которая бывает у тонкокожих молодых людей после долгой болезни, и во сне было поглощено глубокой думой.
Изболевшее тело, которому одеяло — уже непосильная тяжесть, лежало под одной белой простыней. По выпирающим костлявым коленям, более выразительным, чем полная обнаженность, угадывалась предсмертная скелетная худоба. Волосы, отросшие за болезнь, цвета крепкого кофе, были волнисты и неприятно густы. Казалось, это именно их тяжесть и обилие обременяют больного и принуждают его отбрасывать голову назад. Федор Васильевич, теша себя остатком молодого тщеславия, волосы свои стричь не давал, говоря, что ждет соответственную этой процедуре Далилу-очаровательницу. Но вернее — нервозность его была столь велика, что одно прикосновение ножниц уже было терзанием.