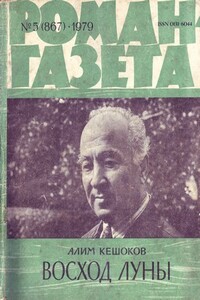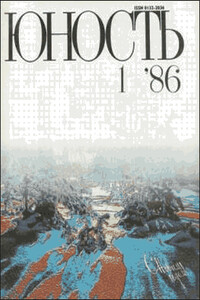Вольная натаска | страница 45
Скучно шумел лес, рождая в душе тоскливые сомнения, и Коле Бугоркову стало казаться, что в такую погоду глухари никогда не поют, а потому дед так легко и просто уснул, зная наперед о неудаче. И он старался утешить себя, что весь этот ночной переход уже и есть охота, а то, что они теперь сидят с дедом в ожидании рассвета — это тоже охота, тоже надежда на удачу, та надежда, из которой, в общем-то, и состоит вся охота, вся эта древняя страсть. «А убью или нет, — думал он, — это уже не важно. Ну не убью, что от этого изменится?»
Он думал, что ничего от этого не изменится, совершенно забыв о том, что в случае его неудачи останется в живых редкая, реликтовая птица, а уж она-то не будет лишней на нашем задымленном шарике.
Он это сбрасывал со счетов, думая в эти минуты только о своей удаче или неудаче. Он знал из рассказов деда, что здесь — именно здесь! — пели с весны четыре глухаря, а теперь их осталось три. Но в эти минуты он с отчаянием думал, что у него нет никаких шансов убить одного из них.
Еще одного!
Всего лишь одного!
Еще одного, который бы запел на рассвете где-то тут, поблизости, может быть, за этими черными пирамидами старых елей. Лишь бы услышать, как он поет!
Вряд ли кто-нибудь, кроме охотников, назвал бы звуки, издаваемые токующим глухарем, песней. Смесь какого-то вибрирующего шипения, шелестяще-шуршащего змеиного скольжения, восторженного захлеба и вдруг настороженного, почти без перехода токанья, четких ударов по басовым, ксилофонным пластинам, короткий и такой же восторженный пробег по этим клавишам, слитный и возносящийся к небесам перезвон, выливающийся в новый и непередаваемо краткий, захлебывающийся от — восхищения и восторга, стремительно шелестящий звук, который опять отсекается слитным и сочным токаньем.
Я уверен, что далеко не все охотники, прочитав эти строки, вполне согласятся со мной. У каждого из них своя глухариная песня, услышанная по-своему, и так же непередаваема она, как и та, которую слышал когда-то я.
Так и Коля Бугорков, которого от возбуждения бил уже озноб, ждал на рассвете свою песню, о которой он тоже никому не сможет рассказать, чтобы слушающий его человек вполне мог бы, ни разу не слышав глухаря, представить себе, что это такое. О ней можно напомнить человеку. Только тогда она снова зазвучит в душе.
Пискнула лесная мышь, зашуршала в траве, в листьях и снова сдавленно пропищала. Было холодно, и хотелось курить. Стали отчетливо уже видны стволы берез и плоскость земли.