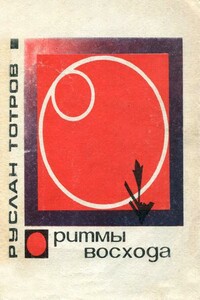Любимые дети | страница 68
То есть здорово поддел.
А жизнь ресторанная продолжается, ножей и вилок бодрый перестук, голоса зычные, но оркестр уже не ча-ча-ча-йе-йе играет, а танец ингушский — дробь барабанная, электрогитар переборы, — и на площадку, где только что шейк отплясывали, три парня выходят, ингуши, и двое из них останавливаются на краю, словно у обозначенной ими же самими границы, а третий, стройный, высокий, в блайзере темно-синем, в пуговицах золоченых, легким шагом вступает в круг. Остановившиеся как бы тянутся к нему, но не смея перейти незримую черту, застывают в напряженных позах, и только ладони гулкие выносят за нее, хлопают яростно, и оркестр прибавляет, подчиняясь, и темно-синий начинает в таком бурном темпе, который и двадцать, десять секунд выдержать невозможно, и лица всех троих суровы и решительны, будто они крепость приступом взять собираются, и танцующий еще и прихвастывает чуть, удалью похваляется перед осажденными, у самых стен крепостных прохаживается, то и дело закидываясь назад, словно падает навзничь, сраженный, но каждый раз удерживаясь в последний миг, выпрямляется ловко — рук и ног пластическая работа, пуговиц золотых сверкание.
— Хорошо танцует, — говорю, — ничего не скажешь.
— Берт, — роняет Габо, — сделай.
Берт встает — теперь я знаю, кто из них кто — и направляется к оркестру, но не напрямик, а кружным путем, огибает площадку, чтобы не мешать танцующим. Сует деньги ударнику, и тот, подбросив палочку, кладет их в карман, ловит палочку и, не переставая стучать, говорит что-то, кивает. Вернувшись, Берт подмигивает Габо — дело сделано.
— Что вы затеяли? — спрашиваю.
— Сейчас увидишь, — обещают мне.
Ингуши заканчивают, и темно-синий замирает, вскинувшись, и, выдержав паузу, пожимает руки своим соратникам, и, сопровождаемый ими, возвращается к столу, к прерванной на время трапезе.
Оркестр, переведя дух, заводит новую музыку, и тоже танец, но осетинский на этот раз, и я вижу то, что обещали мне: Габо, Берт и Заур поднимаются и стремительно, в ритме уже, проходят между столами к площадке, и двое останавливаются — все, как было только что, — но Габо начинает еще резвее темно-синего, а Берт и Заур хлопают так, что в ушах звенит, и, хлопая, подступаются к нему, покрикивают строго — арс! арсэй! давай, мол, шевелись, раз уж вышел! — и, улыбаясь, он прибавляет без видимых усилий, и еще прибавляет, и даже ручкой нам с Аланом умудряется сделать — чего нахохлились, как сычи?! жизнь прекрасна! — а я и сам уже плечами повел, выпрямился горделиво, и Алан, слышу, ритм пальцами по столу отстукивает, и музыканты стараются, играют в свое удовольствие — арс! арсэй! — это ударник кричит, это Берт и Заур, ладони раскаленные, а Габо смеется, и движения его легки, свободны, радостны, исполнены восторженной веры в беспредельность мгновения, в неисчерпаемую вечность молодости.