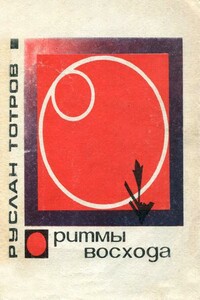Любимые дети | страница 56
— Держи! — высунувшись, Алан протягивает мне редуктор.
Беру и едва не роняю его — он раскален, как утюг.
ШУТКА?
Но Алан-то держал его в руках — десять килограммов раскаленного железа.
Не так уж и раскаленного, впрочем.
Алан умоляюще смотрит на меня — брось!
Поворачиваюсь неторопливо и неторопливо иду к верстаку. Останавливаюсь на полпути — все это замедленно, а железо жжет, как огонь, — и спрашиваю, выдержав паузу:
— Сколько тебе лет?
— Двадцать пять, — торопливо отвечает Алан.
— А Габо?
— Столько же.
Они ровесники моего брата Таймураза.
— А мне скоро тридцать, — говорю и думаю вдруг, что двадцать девять и двадцать пять — это одно и то же почти, а тридцать — на порядок выше, другое качество, все другое. Но будет ведь и сорок, и пятьдесят, и шестьдесят, а если повезет, и семьдесят, и восемьдесят — мне?! — едва не вскрикиваю, а память, не спросив на то позволения, продуцирует стихи Мандельштама:
и, держа огонь в руках — градусов 90, не больше, хотите попробовать? — я завершаю свой путь, но не жизненный пока, и, поставив редуктор на верстак, слышу:
— А ты ничего парень.
Две взаимоисключающие характеристики, выданные мне в один вечер.
Стою лицом к верстаку, спиной к Алану, а он из чрева 386-го таращится на меня, чувствую, и мне хочется глянуть на свои ладони, но нельзя, надо доигрывать роль до конца, и я играю, и, положив, будто невзначай, руки на тиски, смиряю боль холодом, стою с отрешенным видом, словно задумавшись о чем-то, понтуюсь, как сказал бы Габо, то есть притворяюсь, но и на самом деле думаю о себе, и не восторженно отнюдь, и все нейдет из памяти, тревожа — неужели я настоящий? — и, возвратившись в прошлое, я снова еду с таксистом-клятвопреступником по замороженному городу и говорю, оправдываясь: «Я деревенский», а таксист недоверчиво косится на меня и покачивает головой: «Что-то не похоже».
— Бог в помощь! — глуховатый голос слышу, и это
НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ,
а я все еще держу руки на тисках и пытаюсь разгадать — ах, неужели? — загадку Мандельштама.
Это директор пожаловал к нам собственной персоной, и появись он не вечером, а днем, когда многолюдно, кто-нибудь обязательно заглянул бы в дверь, предупреждая о его приближении, шелест пронесся бы по коридору — директор идет! — человек и должность в едином обличье — Директор. Он не заходит пока, стоит в дверях и смотрит внимательно, но не на нас (Алан торопливо выбирается из 386-го), а на потолок и на стены, и если он заметит на них хоть малейшую трещину или щербинку, сюда обязательно явятся маляры-косметологи, которые замажут, забелят, закрасят то, чего вы бы не углядели при всем старании. Интерьеры наши и наши здания самые ухоженные из ухоженных, и это предмет его особой гордости. Но есть тут и свои проблемы, и одна из них, например, каблучки-каблучища, которыми наши прелестные сотрудницы сковыривают лак с великолепного, блистающего паркета, и как-то раз директор полушутя-полусерьезно заговорил об этом на собрании, и, не удержавшись, я крикнул с места, внес рацпредложение: «Надо им шлепанцы выдавать, как в музеях, или калоши полотняные!», и он ответил, отыскав меня взглядом, сказал с печалью непонятого человека: «Не смейся, сынок, порядок в доме не приносит беды хозяевам».