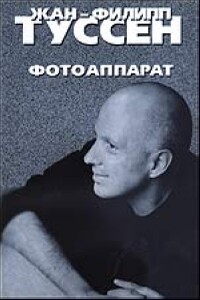Фата-моргана любви с оркестром | страница 18
С превеликим тщанием, превращая каждый пустяк в священнодействие и облачившись в фартук с воланами, почти как тот, что надевала в интернате, когда монахини учили ее печь воздушные меренги и прочие сласти, сеньорита Голондрина дель Росарио принялась за стряпню. Чайник, поставленный отцом, уже вовсю кипел на маленькой парафиновой горелке. Огромную кирпичную плиту, громоздившуюся в углу, затапливали только для обеда. Когда в полдень одна из двух труб начинала бешено дымить, — сеньорита Голондрина дель Росарио никак не могла взять в толк, зачем прежний хозяин-турок устроил в угольной плите совершенно бесполезную вторую трубу, — дом становился похожим на корабль, идущий по сонному морю песка.
Сперва она поджарила в оливковом масле лук, нарезанный перьями, потом — кусок мяса с кровью и, наконец, два яйца к жидкой пшеничной каше, любимой отцом и так непохожей на лакомства монахинь; все это время ее потихоньку грызло чувство вины. Она налила отцу кружку кипящего боливийского кофе, разом наполнившего весь дом ароматом, и продолжала порхать по кухне, словно проворная утренняя пташка, размышляя, а не сказать ли все же про президентский концерт.
Сеньорита Голондрина дель Росарио понимала, что давно уже скрывает от отца слишком многое. Но рассказать — значит испортить ему весь день. И потому что тут замешан легавый Ибаньес («Теперь этому сраному диктатору, — говорил цирюльник третьего дня, — приспичило играться в рыцаря, защищать добронравие, вот он и удумал истребить всех коммунистов в стране до единого, а заодно — всех бедолаг-пидарасов, а ведь и их немало у нас шляется»), и потому что отец не слишком одобрял ее выступления на публике. Тем более в «Клубе выскочек», как он величал Радикальный клуб. Вот утренники, вечера для рабочих или вечера благотворительные — это другое дело. Даже таперство в Рабочем театре — не самую почетную работу для пианиста, по мнению некоторых возвышенных натур, — он находил достойным и похвальным занятием. Как и уроки декламации для школьниц, занимавшие целые вечера, — ведь так дочь хоть немного помогает подруге, наставнице, у которой под началом 242 ученика. «Пианино, оно, конечно, инструмент аристократии, — говаривал цирюльник, — но не забывай: ты дочь человека из народа».
На улице загремела повозка. Судя по расхлябанному стуку подков мула, хлебная. Развозчик из пекарни итальянца Непомусемо Атентти появился в коридоре и поздоровался; за ним шел отец, который его и впустил, в костюме и с увесистым рабочим чемоданчиком. Он ласково пожелал дочери доброго утра, а она поцеловала его, убрала волосинку с напомаженных усов и спросила, как ему нынче спалось. Тут же накрыла на стол и подала завтрак. Цирюльник вооружился большой позолоченной ложкой и с всегдашним аппетитом пещерного человека принялся опустошать полную до краев тарелку, на чем свет стоит ругая зверский холод прошлой ночью.