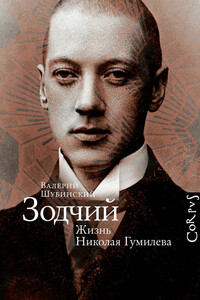Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий | страница 17
Понятно и упоминание о балете. О своей «балетомании» Ходасевич подробно пишет в «Младенчестве». Уже первое посещение балетного спектакля («Кипрская статуя») произвело на него неизгладимое впечатление: «Справа от меня, вдали и внизу, открылось просторное, светлое пространство, похожее на алтарь в костеле. Какие-то удивительно ловкие и проворные люди там прыгали и плясали то поодиночке, то парами, то целыми рядами. Одни из них были розовые, как я, другие — черные, арапы. Они мне казались голыми, потому что были в трико, и очень маленькими вследствие отдаления: почти такими же маленькими, как пожарный, что ходит на каланче против дома генерал-губернатора. Замечательно, что музыки я словно не слышал, и она выпала из моей памяти. Потом вдруг там, где плясали, все вновь потемнело, а вокруг меня опять стало светло, и в то же мгновение услышал я шум проливного дождя. Но дождя не было, и я, осмотревшись, понял, что шум происходит оттого, что много людей одновременно бьют в ладоши»[34].
Сравнение балетного представления с мессой, Большого театра с католической церковью неслучайно. Для Ходасевича и то и другое было воротами в иной мир — красивый, пышный, торжественный — из прозаичного московского двора. Но вот еще один парадокс: в зрелые годы, в своей поэзии, он будет принципиально чуждаться всякой пышности, красивости, всяких романтических эффектов, а путь в иные миры искать как раз в самом тусклом и прозаичном. (Вспомним такие стихотворения, как «Брента» или «Весенний лепет не разнежит…».)
Российский балет переживал в то время не лучшие свои дни. Даже в Петербурге, где в предшествующие десятилетия сложилась блестящая, получившая европейское признание школа во главе с великим Мариусом Петипа, с начала 1880-х ощущался некоторый застой. А уж московская сцена находилась во власти в лучшем случае квалифицированных эпигонов, таких как Хосе Мендес, возглавивший труппу в 1889 году. Основное место в репертуаре занимали эффектные феерии. Московская постановка «Лебединого озера» в 1877 году провалилась: настолько Чайковский оказался чужд стилистике тогдашнего Большого. Но если тот балет, который видел ребенком Ходасевич, и не был искусством высочайшей пробы, если в нем и был элемент китча, тем привлекательнее он оказался для детского воображения. Неслучайно поэте нежностью вспоминал о наивно-безвкусных декорациях Вальца, которого вскоре вытеснили «настоящие художники», такие как Константин Коровин.