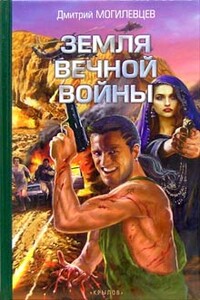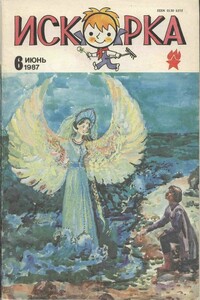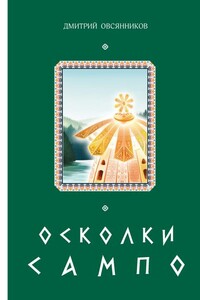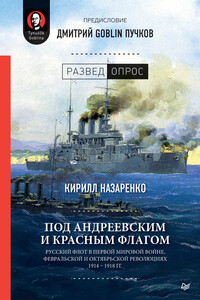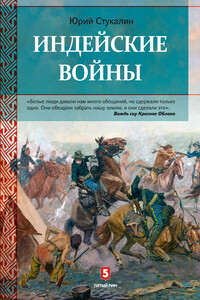Люди золота | страница 16
Отправились в путь после полудня. Икогал с Иголаем суетились, переглядывались испуганно – будто каждый миг ожидали появления недругов. Торопливо притягивали ремнями тюки к саням, костерили коней на своем непонятном языке. То и дело поглядывали на Инги, качали головами.
Дядька обнял Инги на прощанье и, сняв с руки золотое запястье – тяжёлое, узорчатое, – нацепил на руку парню. А потом, прижав к себе, заплакал:
– Ты, паря, береги-то себя. Один ты у меня родной по крови остался. Мы ещё всем им покажем!
Инги кивал. Ему было противно и неловко. Наконец Хрольф отплакался и, утеревшись рукавом, рявкнул:
– Всё, поехали!
Икогал с Иголаем послушно прыгнули в сани.
Отъезжая, Инги не оборачивался. Больше в земной жизни он Хрольфа не видел.2. Земля зимы
Инги ненавидел зиму. Ненавидел монотонную, цепенящую белизну, мёртвый простор, предательскую, хлипкую гладь, готовую разверзнуться под ногами. А вот тело его слепо и упрямо радовалось холоду, готово было барахтаться в снегу, и хохотать, и с воем кидаться в прорубь после раскалённой бани. Тело жило само по себе, ведомое животным, всплывшим откуда-то из прошлого разумом, памятью крови, и тянуло рассудок за собой. Инги думал, что сойдёт с ума уже в первой поездке, когда равнодушные и неутомимые Икогал с Иголаем всё гнали шерстистых низкорослых коников по глади озерного льда, по редколесью, по замёрзшим рекам – дальше и дальше в зиму. Инги, скорчившийся под медвежьей шкурой, стискивал зубы, чтобы не заплакать. А потом, неожиданно для себя, соскочил с саней, побежал рядом, держась за них, и сразу стало тепло и весело, будто влили бражки в кровь. Икогал с Иголаем переглянулись и дружно захохотали.
Они были родные братья и понимали друг друга с полуслова. А ещё они были троюродными братьями Инги, сыновьями двоюродного брата его матери, и без них Инги не прожил бы и года на земле зимы.
Привезли его на дальний север, к землям кочевого народа лопь, где не росла пшеница и даже овёс родился неохотно. Суровое было там житьё, блёклое: в сырых избёнках, срубленных из тонких, мхом переложенных бревнышек, полувкопанных в землю, чадных и тесных, среди глухого леса, испещрённого россыпью озер, речек и проток. И люди жили там крепкие, лютые. Власти над ними почти не было. Местный валит только в поход водил. Да и то вожаком частенько выбирали самого сильного и смелого, а не родовитого. Брали ещё старика в советчики ему и отправлялись за добычей. Сильные хозяйничали. Кто сильнее, тот и главный. Смог соседа одолеть – бери его добро. Последних пожитков, впрочем, не забирали.