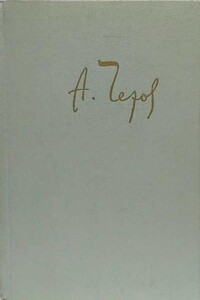Под шум вьюги | страница 15
Встает хуторок, затерянный в глуши. Безграничная степь кругом того хуторка. Далекие курганы, темными очертаниями пестрящие горизонт, и над всем этим простором – горячее синее небо и глубокая, невозмутимая тишь… А то покосы вспомнятся… Темные пятна бесчисленных копен, разбросанных по зеленому простору… Величавые стога… июньские темные ночи… Огоньки у косарей… стройные песни… далекий отзвук лошадиного ржания… перекликанье перепелов в нескошенной траве, и глубокое-глубокое небо с ярко горящими звездами…
Как бы хорошо улететь и остаться там – в этой чудной стране былых впечатлений, былых радостей!..
Холодно… Я еще крепче прижимаю воротник к лицу и усиленно дышу… На мгновение опять становится тепло, и опять встает далекое прошлое… Над степью горит заря в полнеба… Вдали замирает тоскливая песня… воздух полон ароматом подкошенной травы… У студеного колодезя в ложбинке стоит она, моя первая любовь, – Дуня… Любовно и пытливо смотрят ее серые глаза из-под темных длинных ресниц… Отблеск зари весело сверкает в тех глазах… Смуглый, здоровый румянец покрывает щеки… высокая грудь трепетно волнуется под туго стянутой завеской… грубая, рабочая рука крепко и застенчиво жмет мою руку… «Аль ты меня любишь?» – порывисто шепчет она, наклоняясь к моему лицу… «Люблю, моя дорогая красавица…» Горячие губы обжигают меня… Мои руки крепко сжимают трепещущий стан… до боли крепко… А песня снова тоскливо дрожит где-то вдалеке, вызывая глухой, едва слышный отзвук…
Где-то она теперь, эта Дуня?.. Работает ли, и день и ночь не разгибая спины, обшивая и мужа и детей, поспевая и на жнитво в поле, и на молотьбу в риге, и на поденную работу к купцу иль к барину?.. Надорвала ли она свои молодые силы на этой ежедневной, ежечасной работе, и сгинула ль ее девичья красота, и здоровый, смуглый румянец заменился зеленоватой бледностью, а высокая, крепкая грудь высохла как щепка, или вынес все невзгоды железный организм, и она по-прежнему бойкая, статная, красивая?..
А холод уж пронизывал меня насквозь… Тело дрожало и ежилось под сырым платьем. Воротник, на несколько минут согревший меня, не помогал уже… Я отворотил его от лица.
Вьюга опять немного стихла. Яков покрикивал на лошадей. На сероватом фоне волнующегося снега показался лес, дремучий-предремучий…
– Яков, сходи-ка, что за лес, – не сад ли панкратовский?
Яков идет… Я с лихорадочным нетерпением всматриваюсь в его удаляющуюся фигуру.
– Это бурьян!.. – чуть слышно доносится до меня его крик. – Должно межа аль залоги…