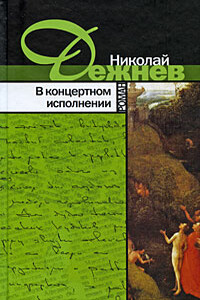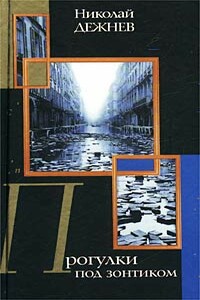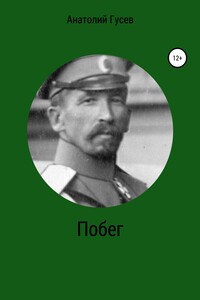Дорога на Мачу-Пикчу | страница 53
— Кто? — почему-то так же шепотом спросил я.
— Этот, седой! Голову опустил, смотрит в землю, и будто сразу лет на десять постарел. Света еще не зажигала, он и не знал, что я за ним наблюдаю. Дома по осени стояли заколоченные, но электричество, как сейчас помню, было. А потом слышу, где-то далеко за околицей завелась машина и все стихло…
Я поднял рюмку и чокнулся с Тимофевной. Колька нас не дождался, выпил так. Странное владело мною чувство: я ждал продолжения рассказа и страшился его услышать. Чего боялся? Трудно сказать, наверное, получить подтверждение своей догадки о той страшной роли, которую играл в этой истории старик. Но вещи узнал настолько неожиданные, что так и не смог решить, как к ним относиться.
Шамкая беззубым ртом Тимофевна продолжала:
— В ту пору жил на другом конце деревни один бобыль… — старуха перекрестилась и бросила быстрый взгляд на сына, — и был у него старый мерин. Не бог весть что, одер одром, вроде вашей кобыленки, но ноги еще переставлял. Вот, на следующей неделе мы и поехали с Захаром в сельсовет, каждый по своим делам. Захожу, значит, в контору, смотрю, а на столе при входе газеты и все с портретами в черных рамках. А на фотографиях… — старуха облизнула сухие губы, — на фотографиях — те четверо, и тоже в форме и при погонах! У меня враз ноги отнялись, забыла зачем приехала. Опустилась тут же на стул, надела очки, читаю: погибли в авиационной катастрофе, и перечисление должностей и званий. Кто только их родным и близким соболезнования не выражал: и президент, и правительство… только старика, что шел по деревне, среди них не было! — посмотрела мне в глаза: — Понимаешь, не было! И вертолет к нам больше не прилетал…
Вконец обиженный Николай даже отодвинул от себя тарелку:
— Мне опять ничего не сказала!
— А что говорить-то, — морщинистое лицо старухи осветилось беззащитной улыбкой, — что, Коль, говорить?.. Или, думаешь, времена изменились? В крови это у нас у всех: потерял — молчи, нашел — молчи, целее будешь! Мне-то что, я свое отжила, а тебя — дурака жалко. Язык, как помело, а умишка, будто у воробья…
Тимофевна, кряхтя, поднялась на ноги и начала убирать со стола. Николай, затаив обиду, принялся макать в томатный соус кусочки хлеба и отправлять их в рот. Жевал угрюмо, ни на кого не глядя. Тезка его, святой угодник, смотрел на нас из красного угла. Крошечной точечкой теплился огонек лампадки.
— Выходит, теперь дом этот принадлежит мне… — произнес я среди наступившей тишины, ни к кому собственно не обращаясь. — Что ж, пойду завтра на него взгляну…