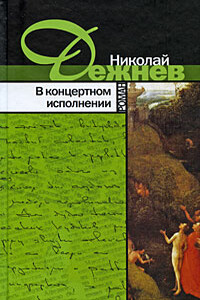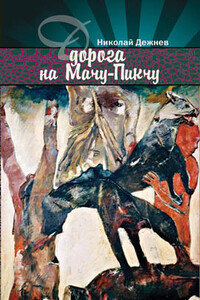Асцендент Картавина | страница 73
— Ты мне не веришь? — попытался я выдавить из себя хоть что-то, что прозвучало бы не фальшью, но проблема была в том, что я сам себе не верил.
— Ну почему же! Все так и должно быть! К чему вам простая баба… — шмыгнула Клава носом и, не успел я ее удержать, скрылась за дверью.
Впрочем, и не удерживал! Остался стоять на ступенях, как в тот вечер, когда бегал Савеличу за бутылкой. Ничего вроде бы за эти несколько дней не изменилось, и в то же время все стало другим. Ну и мастак же ты клеить баб, сказал веселый парень, прижимая к груди арбузы — видел бы он сейчас мою тусклую физиономию! То ли чувства истончились до предела, то ли причиной всему была нервная лихорадка, только впервые в жизни я так остро ощутил боль от самим же нанесенной обиды, ее боль. И все же, — сказал я себе, возможно даже вслух, — это лучше, чем если бы Клава продолжала жить надеждой. Однажды рухнув, иллюзии хоронят под собой тех, кто ими тешился. Прав, наверное, мудрый по жизни Нелидов: утрется, выпьет в подсобке с товаркой Зинкой и выпихнет Картавина пинками в прошлое, а назавтра найдет себе другого, получше.
Когда вышел из метро на площадь Белорусского вокзала, меня уже откровенно бил озноб. Нервы были на пределе, казалось, все вокруг знают куда и зачем я иду. Легонько подташнивало. Подняв молнию куртки до предела, я ощутил прикосновение пистолета. Его тяжесть у сердца вырвала меня из прострации. В кассовом зале пригородных поездов было малолюдно. Усталая кассирша посмотрела на меня безразлично и, не спрашивая, выдала билет в оба конца, Я был ей благодарен. Я ей улыбнулся, но она уже уткнулась носом в страницу журнала. Безумие, а я отдавал себе отчет в том, что балансирую на грани срыва, не только заразно, его видно невооруженным глазом. Человек в ажитации не может не привлекать внимания.
Отойдя от кассы, я надвинуть козырек кепки на глаза. Они, эти зеркала души, с детства меня выдавали. Длинная, продуваемая ветром платформа была пуста. Прогуливаясь по зажатой с двух сторон путями бетонной полосе, я постарался успокоиться. Раскольников, рассуждал я, шел убивать старуху-процентщицу, чтобы доказать себе, что не вошь, мне же ничего и никому доказывать не надо. Я делаю то, что должен делать в предложенных жизнью обстоятельствах. Мы оба восстали против окружающей мерзости, но если из его мерзости можно было найти какой-то выход, то наша мерзость будет померзостней, хотя бы потому, что ее сознательно насаждают. Ее культивируют, не понимая того, что посеяв в душах пустоту, пожнут деградацию нации, и время жатвы уже не за горами. Но мне до этого дела нет, я на многое не замахиваюсь. Есть люди, кто за это ответит, мне же отвечать по моим долгам. Раскаялся Родион или только покаялся, я не помнил, мне раскаяние не грозило. Федор Михайлович, со своей вывихнутой психикой, все запутал и сам, ковыряя в человеке гвоздиком, запутался, я терзать себя не буду. Все происходящее со мной не подвиг и не преступление, а элементарная необходимость. Скорее всего меня даже не поймают, да и как поймать, если с Хлебниковым я практически не знаком и убивать его у меня нет личной выгоды. А что есть неличная, это, как и трагедию народа, мало кто понимает. Ни у кого даже мысли не возникнет заподозрить человека, чей поезд давно ушел, мигнув на прощание огоньком последнего вагона…