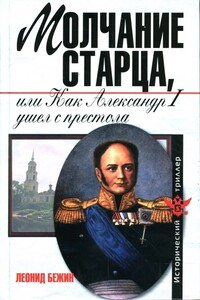Даниил Андреев - Рыцарь Розы | страница 36
Это не только строки из стихотворения Даниила Андреева «Старый дом», посвященного Филиппу Алек сандровичу Доброву, но по мостовой Малого Левшинского действительно тарахтит пролетка, и стихи еще не написаны, и их будущий автор еще ничего не подозревает о… вернее, не прозревает их в своем будущем. Он лишь осознает, что отчасти он своевольное дитя этого дома, его баловень, любимчик, полноправный обитатель, даже строгий ревнитель заведенных в нем порядков, отчасти же — неведомый пришелец, гость, чужак, Андреев в семье Добровых.
Глава двенадцатая
ТАЙНЫЙ ЯЗЫК БИБЛИИ
Небольшое отступление. Читатель вправе задать вопрос: как совместить православие Даниила Андреева с его рассказами о прежних жизнях, столь отдающими буддизмом и индуизмом? И мы должны на него ответить, при этом сделав вид, что этот вопрос не относится для нас к числу нежелательных, неудобных и даже болезненных вопросов. Но, с другой стороны, так ли уж вправе и так ли уж должны? Раз уж мы устремились за автором «Розы Мира» к бесчисленным мирам, вознеслись к неведомым горизонтам, то что уж нам оборачиваться и смотреть назад — туда, где батюшка в церкви стращает адскими муками тех, кто верит в карму, перерождение и прочую бесовщину?! Казалось бы, так, но не будем спешить с окончательным суждением. Может статься, батюшка и сердится‑то неспроста и во многом прав.
Но прав от слова «православие». Пусть сам батюшка гневлив, вздорен, запальчив, не слишком начитан и образован, иными словами несовершенен, но оно — совершенно. Да, православие с его догматикой, таинствами, молитвами, чудотворными иконами, храмовыми службами и главной из них — литургией, — совершеннейшее вероучение, хотя, может быть, запечатанное для нас в его сокровенных глубинах. Оно не нуждается ни в каких дополнительных доктринах, и на этот счет можно быть совершенно спокойным. И для нашего батюшки самое верное было бы не гневаться и стращать, а — служить литургию. Литургия должна занимать все его помыслы, а не карма и перерождение: в ответ на все подобные вопросы надлежало бы ему ласково улыбнуться и промолчать. Это вопросы не для священников, не для тех, кто служит, а для тех, кто странствует и пишет. Иными словами, для нас, грешных. И, неуместные в храме, они уместны в моих заметках.
Так что же нам ответить? Только одно: обратимся к Библии, но только вынесем ее, нашу старославянскую (или синодальную) Библию, из храма и положим на письменный стол, а рядом — подлинник на греческом, арамейском и иврите. И будем читать медленно и вдумчиво, сверяя и уточняя отдельные места. В чем же мы убедимся? Разительное отличие Библии от древнеиндийских упанишад или буддийских сутр в том, что проблемы кармы и перерождения в ней не ставятся и не обсуждаются. Ставятся многие проблемы, и духовные, и этические, и даже политические (к примеру, в пророческих книгах), но только не эти. Эти же не вынесены на внешний, поверхностный уровень обсуждения, никак не очерчены и не обозначены. Более того, в Библии и слов‑то таких нет, которые можно было бы неким образом соотнести с понятиями кармы и перерождения, — разве что слово «палингенесия», переводимое у нас как «пакибытие», хотя было бы вернее — «многожизние». Но контекст этого слова не содержит прямого указания на то, чтобы сблизить оное по значению с метемпсихозом.