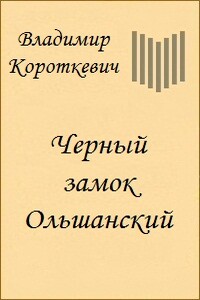Идиллия в духе Ватто | страница 6
— Мы с тобой долго не увидимся, дочка. Но ты знай, свои быстро найдут тебя. Родина тебя не забудет. Помни, ты из России. Ты — советская.
А потом чьи-то руки, пахнущие жестким солдатским сукном, несут ее, а издалека доносятся голоса: "Мадонна, мадонна". Ее не забыли.
…Догорает закат, освещая лица тревожным, красноватым светом.
"Пожалей меня, сжалься, — хотелась сказать ей, — расплети мои косы. Вот я вся тут, перед тобой".
Но вместо этого она медленно пошла по узким в полумраке аллеям. Он шел за ней, боясь потерять ее в серой мгле.
И только на ступеньках террасы она остановилась возле мраморного льва, наклонилась над ним, глянула искоса на спутника.
— Это ты, — сказала она.
И поцеловала каменную умную морду.
Он стоял возле белеющего во мраке сфинкса.
— А это ты, — сказал он.
И его рука с трепетной нежностью погладила мраморную голову.
Потом они пресекли шоссе и вошли в молодой лес. Холодно светили во мгле белые, как девичьи руки, стволы берез.
Была тишина и покой.
Он видел, что ее глаза с ожиданием смотрят на него. Он чувствовал, что так больше нельзя, что она вызывает его на окончательный разговор.
И он решительно сел на пень.
— Слушай, — сказал он, — ты знаешь, почему я сегодня перегонял больного?
— Не знаю. Но ты будто хотел доказать что-то…
— И не доказал.
— В чем дело? Ты сегодня такой странный. Ты не можешь мне простить прошлого? Но я же…
— Глупость, — сказал он, — ты просто ничего не знаешь. Ты не знаешь, что я — конченый человек. У меня ангина пекторис. И необычно сильная.
— Что это? — спросила она. В самом звучании этих слов послышалось ей что-то угрожающее.
— Это болезнь. Грудная жаба. Она бывает обычно у стариков. Редко-редко у молодых, которые не по силам работали и много перенесли… И мне такая радость. — Он помолчал, потом добавил: — Страшно. И сам гипнотизируешь себя…
— Как это?
— Пока в кармане лекарства — припадки редчайшие. Но стоит забыть их дома и только вспомнить, как страх — и почти всегда припадок… Иногда в комнате не хватает воздуха. Хочется выбить окно. Конечно, это одна секунда, но кажется — века.
— Родной мой, — она опустилась перед ним на колени, — это все я виновата.
— При чем тут ты?
— Но я ведь теперь совсем, совсем не такая.
— Не надо, — сказал он. — Не думай, что я опускаю лапки. Я отчаянно сражаюсь, я очень хочу жить… — Он помолчал. — Я Тольке и другим этого дня в Архангельском не прощу.
— Но ты забываешь, что я с тобой… Я же тебя люблю.
— А я не могу, потому что тоже люблю. И смерть. И ты вдова. И наверняка нездоровые дети…