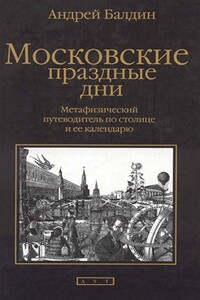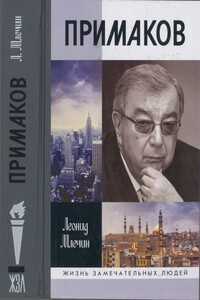Протяжение точки | страница 19
С чертежами наибольшая трудность; Московия в самом деле есть мир в известном смысле водный — бескрайний, зыбкий, не только не размеченный регулярно, но, кажется, отторгающий саму идею такой разметки. От края и до края России волна за волной встают безмолвные громады лесов: диких, непроходимых, нечесаных человечьим взглядом; к югу проливается степь, истребляемая солнцем, оканчиваемая либо степью еще большей, либо оскаленными зубьями южных гор. Пасть, бездна, пропасть мира — в ней тонет человек, которому нельзя и помыслить о внятном пространстве, потому что, осмысленное, оно своей счетной бесконечностью затмит его разум, своим избытком разнесет ему голову на мелкие части (числа). Непомерно велико русское море, в глубине которого смежила глаз светящая красным, золотым и синим, расплеснутая по неровному дну невидимая звезда Москвы.
Отъехав от столицы на три шага, Карамзин уже скучает по Москве.
Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце свое.
Вот уже пошли карикатуры на Европу. Хорош у нас выходит русский «немец».
Не только путешествие — один шаг из Москвы есть уже умственный и душевный переворот; движение из нее — это сущее протяжение точки.
Предпочтение Москвы и ее способа письма, который способ Карамзин, по идее, хочет изменить в корне, становится скрытой темой его странствия. Он ищет новое русское письмо — и с первого мгновения путешествия выясняется, насколько трудным выйдет это предприятие. Слишком велико притяжение Москвы для русского слова. Удаляясь от нее, Карамзин плачет — его слезы есть уже строки слов, бегущие в Москву.
О ней уже много было написано, будет написано еще больше — неудивительно, если она помещается в центре ментального русского чертежа. Слова клубятся вокруг нее, к ней бегут и от нее отливают. Этот пульс составляет характерную особенность московского языка [12], «оптическую», гравитационную его особенность, которая прежде всего для нашего исследования интересна.
Карамзин постоянно и пристально смотрит на Москву, изучает, препарирует, перестраивает ее язык, понимая, что именно он представляет некоторую квинтэссенцию того, что можно назвать традиционным русским сознанием. Подтверждение этому — от противного — полное отсутствие в его заметках Петербурга. Этот город есть результат встречи Москвы с Европой; он уже достаточно осмыслен — он сам готов себя наблюдать и осмыслять. Другое дело Москва: для «немца» Карамзина она, как вечная загадка, так же, вечно будет интересна.