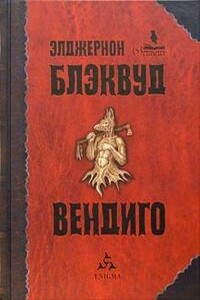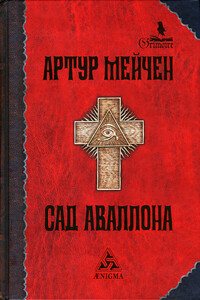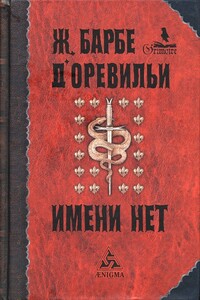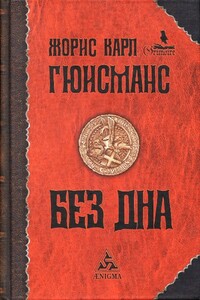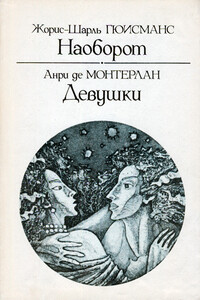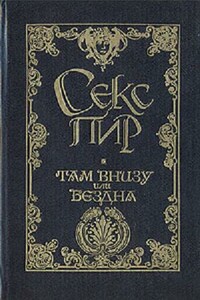На пути | страница 28
Он пугался, прятался к матери в юбку, содрогался, когда, уходя, надобно было подставить лоб под бесцветные губы, вытерпеть дыхание холодного поцелуя.
Теперь, за далью лет, он припоминал эти посещения, что портили ему детство, и они уже казались ему изумительными. Память наделяла их всей полнотой монастырской поэзии; нагие стены комнат она пропитывала слабым запахом воска и дерева; виделись Дюрталю и монастырские сады, благоухавшие горько-соленым запахом букса, обсаженные большими деревьями, увитые виноградом с никогда не поспевавшими зелеными ягодами, обставленные скамейками, на источенном камне которых виднелись старые дождевые пятна. Во множестве подробностей вспоминались ему эти мирные липовые аллеи, дорожки с черными кружевом от ветвей на земле, по которым он бегал. Об этих садах, которые казались ему тем больше, чем старше он становился, он сохранял туманное воспоминание, где, перепутавшись, трепетали образы старого епископского парка и фруктового сада на севере Франции, который даже под жарким солнцем оставался сыроват.
Не было ничего удивительного, что эти ощущения, изменившиеся от времени, впрыснули в него капельки религиозных идей, и когда в мечтах он приукрашивал их, эти идеи проникали глубже. Может быть, тридцать лет все это исподволь бродило в нем, а нынче тесто поднялось.
Но еще действенней должны были быть две других известных ему причины.
Вот они: отвращение от жизни и страсть к искусству; отвращение усугублялось одиночеством и праздностью Дюрталя.
Некогда его дружба кочевала по воле случайных встреч, душа нарывалась на связи с людьми совершенно чуждыми, и вот, после долгих бессмысленных скитаний, наконец осела на месте. У него были близкие друзья: доктор Дез Эрми — врач, одержимый демономанией, — и звонарь в Сен-Сюльпис бретонец Каре.
Это были привязанности совсем не того рода, что знал он прежде: не поверхностные, не фасадные; они были глубоки и объемны, основаны на единомыслии, на нерасторжимой смычке душ, но вдруг оборвались и они. С разницей в два месяца Дез Эрми и Каре умерли: одного унесла тифозная горячка, другого простуда, свалившая Каре после того, как он весь вечер звонил на церковной башне.
То и другое для Дюрталя было страшным ударом. Жизнь его неприкаянная сорвалась с последних якорей и понеслась по волнам; он метался без курса, отдавая себе отчет, что это окончательный срыв, что он уже не в том возрасте, когда можно опять собраться.
Так он и жил — один, в своем углу, со своими книгами; когда он был занят, когда сочинял, то стойко переносил одиночество, когда же оставался праздным, оно становилось невыносимо. Целыми днями, забившись в кресло, Дюрталь уносился в мечтах, и вот тогда-то особенно гуляли в нем навязчивые идеи; рано или поздно за его закрытыми веками начинали разыгрываться целые феерии, всегда одни и те же. В его сознании при звуках псалмов плясали нагие женщины; задыхаясь и злясь, он оправлялся от этих видений; если бы тут случился священник, он был готов со слезами пасть к его ногам, а если бы в его комнате оказалась девка, тут же предался бы наигнуснейшим гадостям.