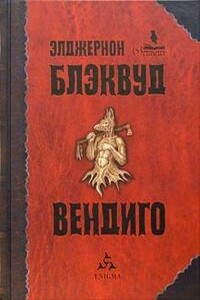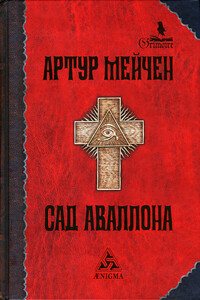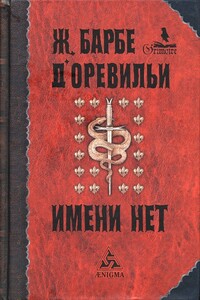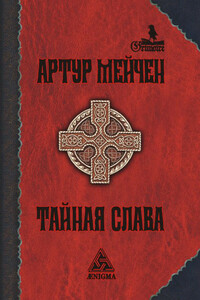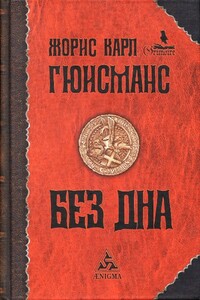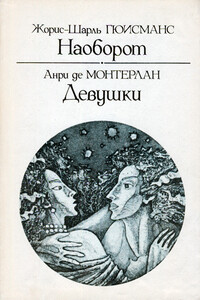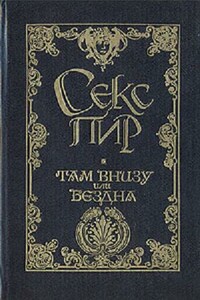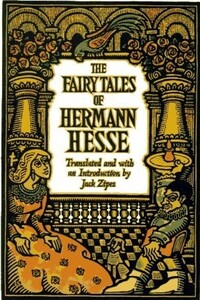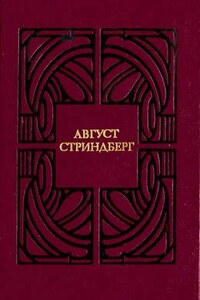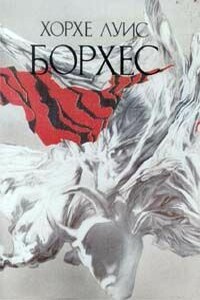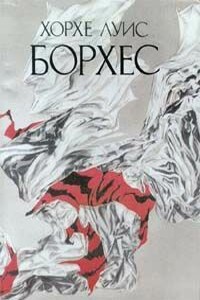На пути | страница 18
Впрочем, в новое время тоже можно упомянуть кое-какие отрывки церковной музыки: Лесюёра,>{4} Вагнера, Берлиоза, Сезара Франка, — но и в них чувствуется, что в уголок сочинения забился художник — художник, желающий выставить напоказ свое умение, помышляющий о своей славе, а вследствие этого забывающий о Боге. Перед нами выступают великие люди — но люди, с их слабостями, с неотчуждаемым их тщеславием и даже с чувственными пороками. Литургическое пение, почти все сотворенное безымянными авторами за стенами обителей, шло от источника неземного, без единой прожилки греха, без единого стежка искусства. В нем воспаряли души, уже освободившиеся от рабства плоти, выплески вались надмирная любовь и чистейшая радость, и это был, кроме того, язык Церкви, музыкальное Евангелие, доступное, как и само Евангелие, величайшим знатокам и величайшим простецам.
Так! Вернейшее доказательство истины католичества — это искусство, им созданное, искусство, никем доныне не превзойденное! Это примитивы в живописи и скульптуре, мистики в поэзии и прозе, в музыке — древние распевы, в архитектуре — готика и романский стиль. Все это было положено на один алтарь и горело единым жертвенным огнем; все это сплеталось в прядь нераздельных мыслей: почитать, поклоняться, служить Искупителю, приносить Ему неопороченный залог Его даров, отраженный, как в верном зеркале, в душе Его созданий.
Тогда, в ту дивную эпоху Средневековья, когда напитанное сосцами Церкви искусство опережало смерть, устремлялось к самому порогу Вечности, к Богу, тогда в первый и, быть может, в последний раз человечество угадало, смутно приметило представление о божественном, о небесном устроении. От искусства к искусству эти представления перекликались и передавались.