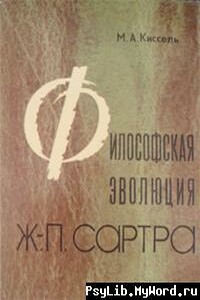Джамбаттиста Вико | страница 60
Так общефилософский постулат единства мировой истории превращается в эвристический принцип исторического исследования, направляя поиск ученого в определенное русло. Ведь фактов бесчисленное множество, их нельзя описать полностью, да это и не нужно. Нужен компас, чтобы достигнуть берега в океане эмпирии или чтобы плыть в определенном направлении, даже если и не удастся увидеть землю. Исследователь без методологического компаса — все равно что корабль, потерявший управление и ставший игрушкой волн. Что искать и где найти искомое — вот вопросы, преследующие ум настоящего ученого, не надеющегося, что счастливый случай откроет ему истину. Конечно, Вико не понимал так ясно роль методологии, как мы это сейчас изложили, но на практике он последовательно держался своего методологического принципа, что неизмеримо ценнее, чем абстрактное знание нормативов, которое само по себе бесплодно, если не одушевлено творческой интуицией. Методологическая ориентация должна быть достаточно гибкой, чтобы теория могла корректироваться в ходе исследования, реагируя на новую информацию. Иначе метод рискует превратиться в жесткую априорную схему, не проясняющую, а уродующую эмпирический материал. С такой опасностью ученый всегда сталкивается, но бездумный эмпиризм эрудита-коллекционера «древностей» не альтернатива мыслящему историку, который, конечно, может попасть в плен к собственной схеме, но зато не окажется в положении скупца, который «над златом чахнет», не находя никакого применения своим сокровищам.
Так, общеисторическая схема Вико, с одной стороны, позволяет ему уловить общую нить в хаотической смене явлений, но, с другой стороны, она приводит к неправомерному сближению различных по своей социальной сущности феноменов. Развивая идею о повторяемости исторических событий, Вико считает эпоху феодализма в Западной Европе возвратом к начальному периоду античности, ибо он уже нашел феодализм в отношениях между патрициями и плебеями древнего Рима! Читатель, наверно, помнит, как, описывая возникновение «героических республик», Вико упоминает о «вечных основаниях Феодов» (3, 251). Это выражение встречается у него не один раз, а в перечне аксиом встречается и такая: «У всех древних наций мы встречаемся с клиентами и клиентелой; эти отношения могут быть поняты соответствующим образом только как Вассалы и Феоды; и ученые исследователи феодального права не могут найти для обозначения их более соответствующих слов…» (там же, 93). Стало быть, феодализм превращается в историческую категорию, обозначающую форму взаимоотношений «простолюдина» и «господина», которая основана на личной зависимости первого от второго за предоставленную ему господином защиту и средства существования (землю). В ходе исторической эволюции эта зависимость становится все менее непосредственной по мере того, как служение на войне и поденная работа в поместье заменяются чисто экономическими повинностями. Несомненно, что определение Вико слишком широко, оно охватывает некоторые черты, общие и рабовладельческой и феодальной формации, но именно поэтому и не годится в качестве дифференцирующего признака стадий социального развития. Социальное отношение «патриций — плебей» имело иной характер, чем отношение «феодал— крепостной», но ошибка Вико меньше, чем кажется на первый взгляд, ибо непременный элемент как той, так и другой формации составляет существование военной аристократии. Недаром выдающийся французский медиевист М. Блок вообще предложил различать «сеньериальную систему» и «феодальную систему». Первая, по его мнению, сложилась раньше, получила куда большее распространение и сошла на нет гораздо позже, чем вторая. «Сеньериальная система» и представляет собой, по Блоку, господство военной аристократии, тогда как феодальная характеризует систему крестьянской зависимости (см. 9, 92).