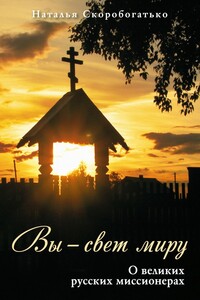Современный опыт оглашения, Крещения и воцерковления. Опыт Санкт-Петербургской епархии | страница 16
Требование от восприемника духовного совершеннолетия являлось естественным желанием Церкви видеть в своих поручителях сознательных выразителей ее священной традиции. Церковно несведущие не могли быть восприемниками в принципе. На практике указанное «совершеннолетие» включало в себя с внутренней стороны: активную принадлежность к православной Церкви (восприемник не мог состоять в разряде кающихся, т. е. быть под епитимьей), достаточное знакомство с ее вероучением и жизнь, достойную этого высокого звания; со стороны внешней — физическую способность к духовному поручительству (в дореволюционной России возраст крестных соответствовал церковным нормам брачного совершеннолетия, т. е. 15 лет для восприемника и 13 лет для восприемницы).[63]
В Русской Православной Церкви традиция восприемничества ничем не отличалась от позднейшей греческой, за исключением малосущественных различий во взглядах на количество восприемников.[64] Поэтому совершенно напрасно стремиться обнаружить в нашей церковной истории примеры восприемничества, по сути соотносящиеся с практикой древней Церкви. Октябрьская революция и последующий период государственного атеизма привели к тому, что на огромных пространствах некогда православной империи, сорокадневные младенцы и их крещеные восприемники всех возрастов — фактически уравнялись в степени своей церковности. «Ибо, можно ли считать воцерковленной бабку, которая во время «Тебе поем», расталкивая локтями, двигается вперед, чтобы поставить свечку».