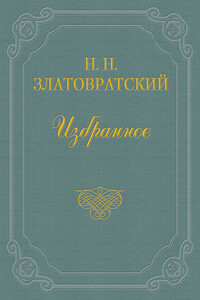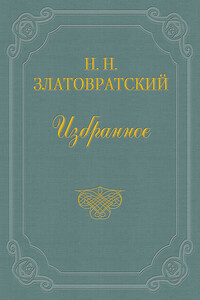Красный куст | страница 12
В хаосе, поднятом первым порывом ветра, трудно было что-либо разобрать: слышались только стоны, мольбы, окрики, усмирения, а под этот шум все, что половчее, входило во вкус принципа «двух голов сахару и трех фунтов чаю». Но когда туман несколько рассеялся, оказалось, что многое из того, что было, уже сплыло невозвратно. Старинная часовенка на холме среди полей оказалась разрушенною и поверженною вихрем, и никто уже не заботился реставрировать ее; зеленая, раздольная, как степь, пойма была растерзана на клочки, изрезана полосами и ремнями, истыкана межевыми столбами и изрыта ямами. На этих клочках и «ремнях» копошились, как одинокие шмелевые гнезда, кучи людей, не только уже не дышавшие той животворной поэзией «общего», всеми чувствуемого, всем понятного, которая некогда носилась над степью-поймой, но или совсем равнодушные одна к другой, или даже прямо враждебные. Даже самые эти кучки, эти шмелиные гнезда были уже не однообразны: одни оказались «собственниками»[4], другие– «подворными»[5], третьи – «четвертными»[6], четверг тые – «половинниками» и проч., и проч. Каждый лапоть, каждая пядень земли спешила отгородиться от своей соседки, спешила обставить себя столбом, ямой, значком «по положению». И этот «лапоть» уж больше не чувствовал себя частью некоего гармонического целого! И только теперь этот «лапоть» – едва прошел первый порыв увлечения «свободным трудом» на «собственном» клочке земли – почувствовал, как ему стало на этом месте душно, неуютно и неулежно… И Елизар Нагорный, родившийся еще тогда, когда эта степь-пойма дышала одной жизнью, одним «общим» простором, не мог не скорбеть теперь, когда приходил он на «собственный», отрезанный ему и обставленный межевыми столбами «лапоть»… Положим, этот лапоть не только все тот же «лапоть», что был и прежде, но он стал его «собственным», тогда как прежде был «барский», положим, это обязан он считать большим преимуществом. Но тем не менее вдруг ему стало душно на этом «собственном» лапте, нестерпимо душно и нестерпимо тесно, безотрадно стало «копаться» в пределах собственной загородки… То ли дело, когда он на этом (хотя и называвшемся «барским») лапте мог переноситься, как на ковре-самолете, с одного конца раскидистой поймы на другой и чувствовать, что он может на каждой точке ее дышать полной и свободной грудью, общим дыханием с каждым своим собратом… Эта жажда простора и воздуха – поэзия. Говорят, что поэзия только свойственна тому, что исключительно привык человек считать своим, собственным, интимным: поэзия «своего» угла, хотя бы нищенского, «своего» личного труда, «своей» собственности, «своей» семьи… Но есть другая поэзия – поэзия «общего»… Вот этой-то поэзией некогда жил и дышал Елизар Нагорный.