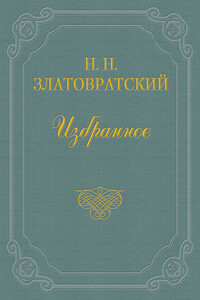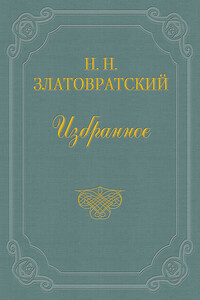полями, лугами, лесами, пожнями и пустошами; кроме общей «барской межи», отделявшей владения их помещика от соседних, угодья нагорного мира не знали никаких границ, никаких столбов и ям. Общины-сестры, связанные общим союзом, вместе поднимали барскую и собственную «тяготу» жизни, тянули за общий страх и риск. В распорядки их внутренней жизни никто не вмешивался; «прямой и точный смысл закона» им был неведом; народная «общинная совесть» могла жить рядом с «совестью барской», и если эта барская совесть «вносила соблазн», то только порывами, налетом; он мог быть, но при случайно благоприятных условиях мог и не быть. Эти благоприятные условия существования для нагорного мира дольше, чем у их соседей, и вот почему дольше. Нагорный мир апеллировал во всех своих распорядках исключительно к одной народной, общинной совести. Ежегодно, в известные сроки, сходился весь нагорный мир в одну из деревень (считавшуюся родоначальницей всех прочих, так как время заселения терялось во мраке веков) и здесь производил дележ и равнение своих общеволостных «угодьев». Сначала он разбивал себя на семь-восемь «вытей» по числу общин, равняя их по душам. По этим вытям уже разбивал «жеребьевкой» все угодья и леса, и луга, и даже поля (хотя последние в более продолжительные периоды переделов, от 3-5 лет). Все уравнивалось в «вытях» по самой строгой справедливости. Затем каждая выть
[3], как самостоятельное целое, вела свои собственные равнения, сообща рубила и охраняла леса, косила луга, отправляла повинности. Эта же строгая общинная организация держалась и во всем; принцип равнений общей работы и взаимопомощи был строго проведен чрез всю общеволостную жизнь. На случай пожаров – все выти обязывались выбегать на пожарище, рубить лес, ставить избы погорельцам… и проч., и проч. Мы не будем здесь вдаваться в эти подробности… Об этом когда-нибудь мы еще будем говорить в своем месте. Нас интересуют здесь собственно земельные отношения.
Когда наступало время передела полей, вся тысячедушная масса нагорного люда сходилась на большой холм и здесь у старинной, дряхлой часовеньки с облупившимся образом «старинного письма» выбирались вытчики, мерщики и целовальники, здесь вся толпа осенялась крестным знамением, призывая бога в свидетельство справедливости предстоящего дела, и бросались жеребья между вытями.
Вот другая картина. Настало время сенокоса. Уже не тысячедушная, а масса народа, числом до трех тысяч душ баб и мужиков, парней и девок, разряженная и гульливая, выступала на широкие пойменные луга, расстилавшиеся кругом, как степь. На этой зеленой площади все три тысячи душ жили одной жизнью, одной мыслью, одним чувством и биением сердец. Что за дело, что каждой из этих трех тысяч душ достанется из этого обширного луга всего 1/3000 часть, величиною, может быть, в 1/2 мужицкого лаптя… Может быть, это и плохо, это скудно, но зато он чувствовал себя «хозяином» и царем не одного этого несчастного пол-лаптя, а всей необозримой зеленой степи, по которой рассыпались три тысячи душ, его однообщинников!.. Вот где суть, вот где великое значение того «былого», о котором скорбит и ноет сердце Елизара Нагорного! И – увы – все это прошло, миновало, какой-то вихрь разрушения и разложения пронесся над общиной-волостью, и община-волость стала нахронизмом, раритетом, «сонным мечтанием» в воспоминаниях стариков… Откуда все сие? Этот вихрь «разложения» общины-волости явился, конечно, не без причины. Он подготовлялся в течение длинного предыдущего периода, незаметно, медленно, но неуклонно, и в период крепостного права необходимые элементы назрели окончательно. Когда наступила ликвидация барства, все ощетинилось, все напрягло внимание, все спешило вооружиться, чтобы «не упустить момента»…