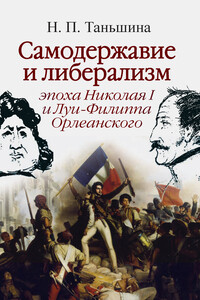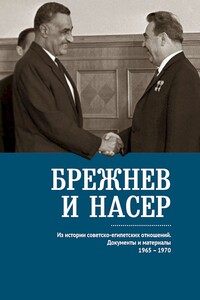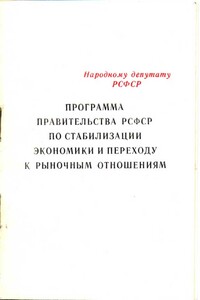Суть времени, 2012 № 08 | страница 48
Все перечисленные сомнения не могли не вызвать к жизни разнообразную критику в адрес Модерна, а также выдвижение мировоззренческих альтернатив.
Это были социалистические идеи от Шарля Фурье и Анри Сен-Симона до Карла Маркса и его последователей.
Это были идеи анархизма от Пьера Прудона и Макса Штирнера до Михаила Бакунина, Петра Кропоткина и их последователей.
Это были идеи расового и классового «протофашизма» от Томаса Мальтуса и Герберта Спенсера до Хаустона Чемберлена и их последователей.
Напряженное ощущение «пробуксовки Модерна» резко усилилось к началу ХХ века, на фоне нарастающего на Западе социального расслоения. И сопровождающего это расслоение декадентского перерождения культуры, теряющей свой пафос и свою роль источника объединяющих социальных ценностей.
Именно тогда Макс Вебер с горечью писал о том, что рациональный Модерн, разъявший и отделивший формальными барьерами сферы науки как поиска истины, права как поиска справедливости и искусства как поиска красоты, — создал своего рода вражду между этими сферами и разделил человеческую целостность.
Именно тогда Фридрих Ницше заявил о решительном отрицании «фальшивого» рационализма, прогрессизма и антропоцентризма Модерна. И провозгласил «смерть Бога» и «нигилизм сильных».
Но самый радикальный поворот к переосмыслению и критике Модерна произошел в ходе и по итогам Первой мировой войны. Сам факт которой объявлял о неработоспособности ключевых концептов Модерна, включая идеи индивидуального и социального прогресса, основанного на торжествующей рациональности. Невообразимая по масштабам, бессмысленной жестокости и продолжительности мировая бойня, которую никто не хотел (не мог, не сумел) предотвратить и остановить, поставила вопрос о проблемности и/или исчерпанности Модерна с полной беспощадностью.
Катастрофический пессимизм в отношении Модерна, видимо, наиболее отчетливо для широких масс отразился в послевоенном западном романе. В Европе — от Ричарда Олдингтона («Смерть Героя») до Эриха-Мария Ремарка («На Западном фронте без перемен», «Три товарища»). В Америке — от Джона Стейнбека («Гроздья гнева») до Теодора Драйзера («Американская трагедия») и разоблачительной прозы Эптона Синклера.
Вторая мировая война утвердила факт глубочайшего кризиса Модерна в сознании Запада с полной определенностью и несомненностью. Теодор Адорно выразил это мироощущение заявлением о том, что после Освенцима нельзя писать стихи. И хотя философское и в целом мировоззренческое осмысление катастрофического кризиса Модерна началось гораздо раньше, именно с 40-х — 50-х годов ХХ века этот процесс стал очень широким и активным.