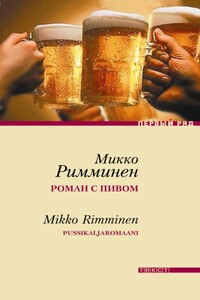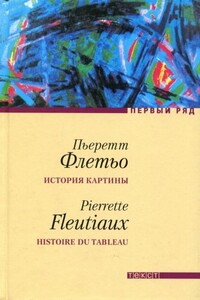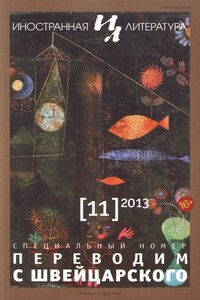Теода | страница 74
XXI
ЯРМАРКА
Мужчины рыхлили мотыгами землю в садах. От этого Терруа казалось еще более обнаженным, и мы не знали, что делать с призрачным богатством весны, незнакомой с изобилием, подобной зову манка, требующему ответа. Грустно было думать, что она не может наступить сразу, тотчас же. Грозовой дождь, который подарил нам ощущение тела, окружив разбуженными ароматами и голосами природы, стал всего лишь первым, мимолетным предвестием лета, смутно маячившего где-то очень далеко впереди.
Как хотелось протянуть руку и опереться на что-нибудь надежное; увы, пустота лишала нас опоры. Моя протянутая рука не встречала ничего, кроме моей второй руки, а душа только и могла, что свернуться комочком и утешать самое себя. Луга с короткой щетинкой травы запестрели яркими низкорослыми цветочками, но и это не скрашивало нашего одиночества: слишком уж неуместно выглядели они на этой, еще не вошедшей в силу земле и слишком не похожи на нас. Однажды утром я заприметила в поле ласку и горностая: я глядела на них словно из другого мира. Видели ли их мои сестры и братья? Не могу сказать, понятия не имею. По вечерам мы собирались на площади, чтобы покачаться на доске, положенной на древесный ствол, но и тут были не вместе — наоборот, рассаживались по разные ее стороны. И одиночество ощущалось так остро, так больно сжимало горло, что мы теряли дар речи.
Сад Теоды тонул в зарослях сорняков. Но она и не собиралась расчищать его, это ее не волновало. Так же как не волновало исчезновение Барнабе. Однажды Эрбер спросил ее:
— Вы, я гляжу, не больно-то скучаете?
— Нет.
— А ведь теперь вы вроде как вдова.
— Очень может быть, — отвечала Теода.
Она говорила: «Видно, люди из Праланса подпоили моего мужа, и он во хмелю, да еще и слепой на один глаз, мог упасть в реку».
На июньской ярмарке моей матери пришлось самой покупать баранов: все мужчины нашей семьи отправились на поиски Барнабе. Мы с Роменой сопровождали мать. В этом году отцу не доведется побывать на ярмарке, а ведь он всегда привозил нам оттуда, если мы оставались дома, то конфетку, то свисток, то серпантин.
Город казался огромным, наводил страх. Пройти в его ворота с нашей скотиной, нашей бедностью, нашим убожеством — такое мы считали почти кощунством. Мы были робкими завоевателями, и осажденные это хорошо знали. Хозяева постоялых дворов зазывали нас к себе, выставляя на улицу полные бочонки, столы и скамьи. В перерывах между двумя сделками люди присаживались, чтобы принять решение, потолковать, опрокинуть стаканчик. И тотчас между ними возникало согласие. Или ссора.