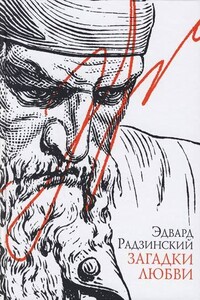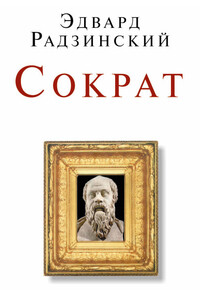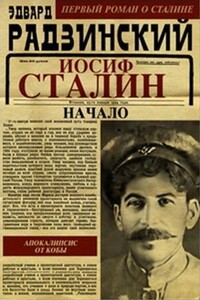О себе | страница 41
А в это время за сценой действовали. Там собрались актеры. Составили письмо с протестом против снятия Эфроса. Кто-то отправлялся в Дубну, где на природе жили и творили представители научной интеллигенции, чтобы они подписали письмо против снятия Эфроса. Кто-то с тем же письмом поехал в Переделкино, где на природе жили и творили представители литературы.
Представители научной интеллигенции подписали все. А представители литературы подписали далеко не все, говоря, порой, сакраментальную фразу, что «для Эфроса это снятие даже лучше».
И потом я много раз слышал эту загадочную фразу:
— Так для него будет лучше, если ему будет хуже. Хотя в том, что они говорили, был резон. Они хотели сказать, что он не может быть главным режиссером, потому что нельзя им быть у нас, если ты не умеешь исполнять любимый танец — шажок налево, шажок направо… Если не умеешь отвечать демагогией на демагогию и хамством на хамство.
Но он не только не умел. Он не хотел.
Трагическое ощущение мира — во всех спектаклях Эфроса. И его история — это история о Художнике, о Времени и об Убийстве.
В это время ему предложили стать очередным режиссером в Театре на Малой Бронной. И здесь, как и в случае с Товстоноговым, у него было два пути. Один (его так ждали те, кто его любил) — заупрямиться, отказаться. И думаю, тогда ему предложили бы что-нибудь получше. Он был слишком знаменит, чтобы власть не захотела разрядить обстановку. Но он… Он быстро согласился, поставив лишь одно условие — он приходит на Бронную со своими десятью актерами. И условие, конечно же, было принято.
Но это согласие Эфроса очень разочаровало.
И меня, в том числе. Я его тогда не очень понимал. Дело в том, что человек часто определяется тем, что у него можно отнять. Вот у этого вынь орденок из петлицы, и он — несчастный. Вот у этого — забери должность… А у Эфроса можно было отнять все, только оставить ему одно — возможность репетировать. Он очень точно написал: «Репетиция — любовь моя».
Наш другой знаменитый тогда режиссер Валентин Плучек ехал как-то с Эфросом в одном купе. И Плучек потом с юмором пересказывал их беседу.
Плучек: — Толя, чем вы сейчас занимаетесь?
— Я начал ставить пьесу.
— Подождите, но вы только что закончили другую?
Эфрос удивлено-озадаченно взглянул на него и спросил:
— А чем же еще заниматься?!
… И он пришел на Бронную. В вечно трудной судьбе этого театра будто осталось некое проклятие — кровь расстрелянных артистов Еврейского театра, когда-то занимавшего это здание.