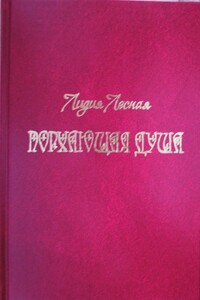Мертвое «да» | страница 16
Анатолий Штейгер — мастер коротких, даже кратчайших стихотворений. Лучшие из них легко заучиваются наизусть. Вот только пять строк:
Первые два с половиной стиха — поэтические, мелодические, а следующие за ними (той же длины) подрывают романтику горькой иронией, взятой в скобки — это очень характерный для Штейгера прием. Ведь и Адамович, мечтавший о невозможном чуде в поэзии, едко высмеивал всякое поэтическое легковерие, чрезмерный энтузиазм, мнимый экстаз.
Восьмистишие с эпиграфом из Иннокентия Анненского, любимого поэта и Адамовича, и Штейгера. Там вздох о детстве — когда нас берегли, рассказывали нам басни, «учили верить в Бога». А теперь мы взрослые:
Опять ироническая скобка, где выделяется наречие нечестно. Нечестность — порок, но в сопоставлении с беспомощностью, неумелостью, вызывает жалость к слабому человеку.
Штейгер мог бы повторить слова Розанова в последней записи Уединенного: «Никакой человек не достоин похвалы. Каждый человек достоин жалости».
Мы живем в жестокий век, и жалость выходит из оборота в палаческом жаргоне современных власть имущих извергов: они не только владычествуют, но и воспитывают целые народы: приучают к безжалостности и лжи. Жалость выпадает и из словаря некоторых новых «метафизических» поэтов, которые иногда прославляют Бога с чертами тирана-самодура, как и многие кальвинисты, и при этом забывают: суровый ветхозаветный Иегова не только мучил, но иногда и жалел избранный Им народ.
У Штейгера острая, хотя и бессильная жалость без опоры в вере, да еще с иронией — пусть и горестной иронией, но и его тихий укор обличает жестоких политиков и жестоких «метафизиков».
Жалость укоренена в совести и, за немногими печальными исключениями, одушевляла русскую литературу. Даже Маяковский, воспевший чекиста Феликса Дзержинского, жалел хотя бы лошадей.
Не было у слабого Штейгера пророческого негодования и пророческих упований. Он мал и не удал, но есть у него свое небольшое, незаметное, но заслуженное место в русской поэзии.
Любовь: великое, но искалеченное слово… Французы говорят: любовь можно делать, и известно, что это значит.
О любви Штейгер писал не меньше, чем о жалости. Вот еще одно его легко запоминающееся пятистишие: