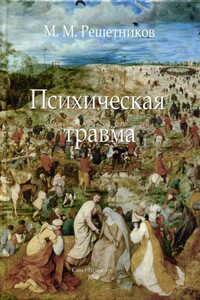Частные визиты | страница 63
— С Виктором… — повторяю я.
— С Виктором я сама была такой, какая я есть. С другими нужно было подыгрывать, понимать. Ему я тоже подыгрывала, вначале. А сейчас — нет. И это всех устраивает. Но не приносит удовлетворения. Ни мне, ни ему. И никакого выхода…
— Ну, а если какой-то предельно фантастический?
— Есть два. Это расстаться, но тогда нужно что-то создавать новое… И второй — находить пути к сосуществованию.
— Второй вы произнесли как-то не слишком оптимистично.
— Да какой уж здесь оптимизм. Но делать так, как ему хочется, я не хочу.
— А чего он хочет?
— Он не говорит. Его как бы все устраивает. Я готова попытаться понять— чего он хочет, но не собираюсь ставить знак равенства между «понять» и «делать как он хочет».
— Виктор не мой пациент, и мне нет дела до того, чего он хочет. А чего хотите вы?
— Мне с ним просто неинтересно. Мне неприятно с ним в обществе. А заменить его нечем.
— Проблема только в отсутствии замены?
— Я не знаю, вы, может, поймете… или не поймете… Я уже не люблю его, и Лёли давно нет. А я его все равно ревную. Такая ревность без повода… Я стала ненавидеть даже предметы, которые мы покупали вместе. Вчера вазу разбила, вначале думала, что случайно, а потом почувствовала, что еще чего-нибудь хочу разбить. Мне так хотелось тепла… Мы столько труда вложили в наше «гнездышко», а сейчас там все покрыто инеем, холод идет даже от камина, который я восстановила специально для него… Каждый день с трудом открываю глаза. Не хочется вставать с постели… И он так же… Живем, как два замороженных трупа… Нет сил.
Здесь мне нужно сделать еще одно отступление. В конце 1980-х я познакомился с немецким аналитиком профессором Хансом Диккманом — автором книги «Любимая сказка детства», который рассказал мне о своем опыте, в частности о том, что в некоторых случаях неврозы и обычные поведенческие паттерны формируются на основе любимой сказки детства. В то время для меня это было абсолютно новым знанием. Первой «сказкой» Ханса была «Русалочка», а точнее— пациентка, у которой истерическая немота периодически сменялась таким же «параличом» обеих ног (без каких-либо признаков органического поражения нервной системы).
Мы не знаем, почему одни сценарии и сюжеты из мифов или любимых сказок раннего детства оказываются почти фатально связанными с типичными жизненными сценариями, а другие проходят совершенно незамеченными. Безусловно, здесь важен не только фактор многократного (иногда стократного) рассказа или перечитывания «любимой сказки детства» — обязательно должен присутствовать какой-то аффективный компонент. В данном случае он явно присутствовал, и скоро мы проясним этот момент.