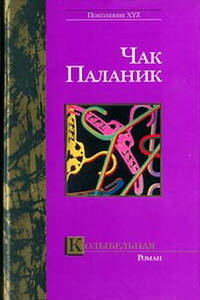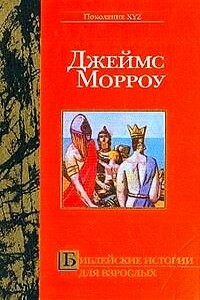Жестяные игрушки | страница 122
И если ты — эта женщина-японка, лежащая в гулком ржавом брюхе бомбардировщика, ты начинаешь понимать, что лежишь внутри самого большого в мире барабана. В то время как сотня туземцев снаружи бьет в тамтамы ненависти — бьет камнями и воспоминаниями, которым их научили твои предки. И звук этот становится для тебя всем миром. Звук этот становится отравленной атмосферой, которая проникает в твои уши. Газом, наполняющим твой организм через слуховые отверстия, от которого тебя тошнит, как от токсикоза, и из-за которого в конце концов каждая клеточка твоего тела начинает молить о блаженной тишине, подарить которую способна только смерть.
Женщина-вождь поднимает руку, и ее люди замирают с занесенными над головой камнями. Если ты — эта женщина-японка, тишина разбегается по твоим жилам подобно морфию. Женщина-вождь пригибается к маленькому круглому окошку в борту бомбардировщика и говорит: «Поэзия. — Слово это гуляет эхом по гулкому фюзеляжу. — Мы знаем, что японцы — великие поэты. Великие мастера слагать хайку. Сложи нам стих, который объяснил бы все. Стих, который на мгновение вернул бы к жизни наших мужчин и унял бы нашу боль оттого, что они порабощены… убиты. Сложи нам такой стих. Нам нужна ваша волшебная поэзия».
Но из «Мицубиси G4M1» если и слышно что-то, так только всхлипы. Уж во всяком случае, не стихи. Сотня барабанщиков снова начинает колотить по металлу. Так громко, словно тебя саму колотят дубинами, — если ты эта женщина-японка.
Время от времени, если вы — эта женщина-вождь, вы поднимаете руку, требуя тишины. Замораживая сотню твоих барабанщиков с занесенными над головой камнями. Для того чтобы в этой тишине женщина-японка могла прочитать строку или две и спасти себя, если она может еще сделать это. Спасти себя с помощью хайку.
Но каждый раз, когда вы, женщина-вождь, поднимаете руку, вы слышите только эхо металлического лязга, отдающееся в далеких джунглях. И никаких стихов.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Детский бунт
Меня сделали черным, когда мне исполнилось одиннадцать. Некоторое время я просыпался по утрам и вставал белым, но за день меня делали черным. Делали так, словно знали меня как облупленного, даже если это были совсем не знакомые мне люди. И делали меня черным, глядя сквозь меня, если это были продавцы в магазинах. Или, если это были другие мальчишки, делали меня черным, обзывая «бунгом», только не тем «бунгом» — настоящим, как моя мать, — вот тот «бунг» был что надо, словно удар рогов в стенку. Или, если это были учителя в школе, делали меня черным, говоря, что проклятие у меня в крови, от природы. В общем, меня делали черным ежедневно, где-нибудь ближе к полудню.