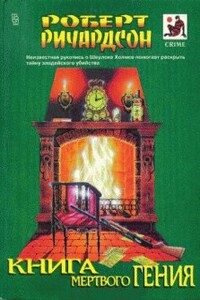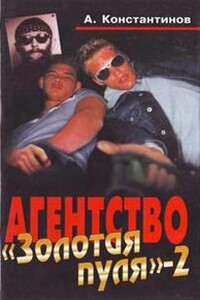Тайна «Сиракузского кодекса» | страница 39
— Я хотел бы… поговорить, — добавил он. — Может быть, выпить.
— Поговорить?
— Поговорить. Вы поняли меня?
— Понял.
— Так вы придете? Завтра в два?
Я взглянул за его плечо. Бодич наблюдал за нами чуть озадаченно, будто кто-то только что сообщил ему, что остатки угря, которого он с аппетитом умял за завтраком, проверены на содержание селена и дали положительный результат. У меня, должно быть, тоже был странноватый вид. Бодич, конечно, представлял, что на уме у Ноулса, не лучше меня.
— Конечно, я зайду к вам.
Он снова взял мою руку и пожал ее.
— Спасибо. Большое вам спасибо.
Мне показалось, что это было сказано искренне.
Он очень быстро отвернулся, но я все же успел заметить слезу, выступившую у него на глазу.
Ноулс пошел к кладбищенским воротам между матерью Рени и ее спутницей. Обе взяли его под руки. Никто из них не оглянулся.
VII
Пестрый денек. Небо белое от перистых облаков и быстро надвигающихся башен тумана, поднявшихся над восточным холмом Президио. Вдоль Давизадеро между Бродериком и Бейкер прорывы солнечных лучей высвечивали золотую листву вдоль верхнего края колоннады портика, который, как нас уверяли, был уменьшенной копией «Малого Трианона» — скромного дворца, выстроенного по приказу Людовика XIV на задворках Версаля — вершины светского абсолютизма. Чем отчасти объясняется, почему, когда атеисты наконец добились уничтожения огромного цементного креста на горе Дэвидсон, некие иные элементы общества поспешили заменить его столь же впечатляющей гильотиной.
Двумя домами западнее стояло пристанище бюргера, которое Крамер Ноулс называл домом.
Особенности окрестных зданий были воплощением амбиций, этакие особняки, высящиеся на улице, как утес на городском канале. Только и было между ними общего, что масштаб богатства. Небрежный кивок вежливости, не скрывающий высокомерия, выражался в продуманной небрежности кипарисовых аллей вдоль подъездных дорожек. И даже желто-бурые курганчики кипарисовой хвои укладывались в гранитные угловатые глыбы, повинуясь формам ступеней и дорожек. Фонарь светил и днем. Две-три лампы в нем перегорели. Прошла всего неделя со смерти Рени Ноулс, но уже стали видны признаки запущенности.
Запах можжевельника и жасмина, разумеется, открыл шлюзы воспоминаний. Но я отступил в сторону, пропустив мимо их поток, скатившийся по ступеням и слившийся в озеро под злосчастным высоким кипарисом. Лишь нарочито случайный взгляд в ту сторону намекал, что я, быть может, бывал здесь раньше. Да еще то, как я тупо уставился на большую входную дверь. Остались ли за ней какие-то следы трагедии?