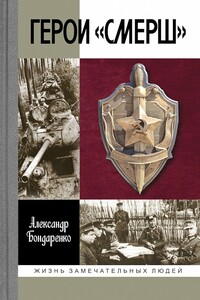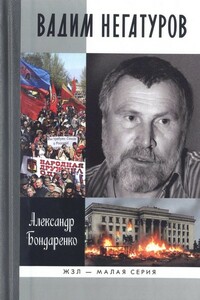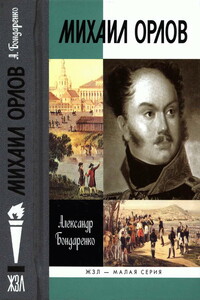Денис Давыдов | страница 75
В результате тех самых «рутинных» боев, которые повсеместно и непрерывно вели различные русские отряды, «к 1-му января 1809 года вся твердая земля Финляндии уже была очищена от неприятеля и покорена Русскому оружию. Но шведы еще намеревались оспорить завоевание сей страны и приготовлялись к начатию военных действий весною, при вскрытии льда»[147].
И что бы тогда было? Год 1809-й грозился стать повторением 1808-го…
Чтобы этого избежать, «император Александр повелел Кноррингу>{67} открыть кампанию 1809 года переходом Балтийского моря по льду с целью перенести военные действия в самую Швецию и овладением Стокгольма, склонить Густава IV на мир. Не веря в успех предприятия, генерал Кнорринг и старшие начальники затягивали и откладывали его выполнение. К выступлению их побудил лишь посланный государем Аракчеев»[148].
…Есть в истории «нелюбимые личности», на которых словно бы легла некая рокова́я печать. В числе таких людей оказался, в частности, граф Алексей Андреевич Аракчеев — верный слуга двух императоров, выдающийся военно-административный деятель, фактический создатель лучшей в Европе артиллерии, человек удивительного бескорыстия (пожалуй, он был единственным, кто отказался от высших отличий империи: чина генерал-фельдмаршала, княжеского достоинства и ордена Святого Андрея Первозванного). Но современники и даже историки приписывают «Силе Андреевичу» несуществовавшие грехи — утверждают, что он был трусом, ни в каких военных действиях не участвовал, покидая боевые порядки при первом выстреле. Это не так — известно, что в 1813 году, при Люцене и Бауцене, он командовал русской артиллерией[149], поэтому его портрет по праву занимает свое место в Военной галерее Зимнего дворца. Однако истинный воинский, точнее — военачальнический подвиг графа Аракчеева относится к иному времени: к Шведской кампании…
Распоряжение императора Александра Павловича дойти до шведского берега просто напугало военачальников. Неудивительно: многие десятки верст по льду, который неизвестно где и когда может разойтись или проломиться, должны были пройти не только тысячи пехотинцев, но конница и артиллерия, без которых выход на противоположный берег был бы занятием бессмысленным. Очевиден был риск потерять армию без боя! Разумеется, что в этом случае виноватым был бы не государь, отдавший неисполнимый приказ, но военачальники, которые не смогли избрать правильный маршрут. Но кто скажет, где таковой пролегает?!