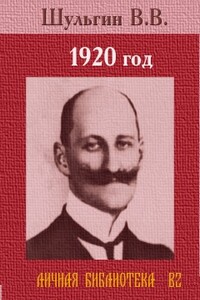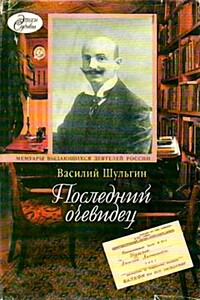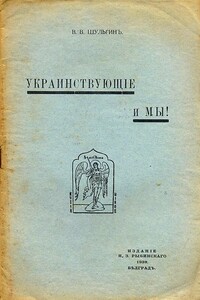Три столицы | страница 46
Но, наконец, я сообразил, что, может быть, сейчас не так. Тогда я решил сдать мои вещи «на хранение». Я пробирался через густую толпу. Она была такая незнакомая, как самая чужая нация. А ведь это была толпа моего родного города, и уехал я отсюда всего шесть лет тому назад.
Вдруг «чья-то рука легла мне на плечо».
Жест был классический. Ясно, что меня арестовывают. Так ведь всегда бывает: кладут руку на плечо. И я, положительно, заставил себя обернуться, так мне не хотелось. Передо мной стоял молодой человек в меховой шапке с наушниками.
— Гражданин, газету забыли!
Он подал мне мои «Известия»…
Не успел я оправиться от этого «впечатления», как последовало новое. Где я сдавал вещи на хранение и где работали споро и быстро, вдруг меня спросили строго:
— Ваша фамилия?
Моя фамилия… Зачем ему моя фамилия? К тому же я ее вдруг забыл. Но, сделав большое усилие, вспомнил. Сказал:
— Шмитт.
Это я в первый раз ее произнес. Ничего, сошло очень хорошо. Он записал и сейчас же отдал мне квитанцию.
Я понял, что это просто здесь такой порядок при сдаче на хранение.
И вышел я благополучно на высокое крыльцо вокзала.
Чуть серело. В этих предрассветных сумерках я вступил на «родную землю». Впрочем, она сейчас была под снегом и льдом.
Все-таки у меня забилось сердце… Очерствели мы, разумеется, но все же это волнует. Конечно, я уже не тот. Сбросьте тридцать лет с плеч, и я, должно быть, растопил бы уличный ледок «горячими своими слезами».
Когда я кончил гимназию и мне было семнадцать лет, я на три месяца поехал за границу. Так, возвратившись, я едва не бросился на шею русскому носильщику в Радзивиллове и, можно сказать, духовно танцевал перед каждым кустиком до самого Киева. А Киев показался мне царем городов во Вселенной.
Я думаю, что тридцать лет тому назад я был таким, каковы сейчас некоторые из русских эмигрантов. Они, возвращаясь, будут, наверное, целовать русскую землю. Через три месяца по возвращении они ее, может быть, проклянут, но это не меняет дела.
Сознаюсь, что я любил родину несколько эгоистично, например, как любят родителей, от которых все берут и которым ничего не дают. Это прошло. И теперь я хотел бы ее любить, как любят иных детей: таких детей, от которых мало чего ждут.
Любовь всегда такая: или берет, или дает. И та и другая может быть любовь страстная и глубокая. Та любовь, «за то, что берешь», для меня отмирает. И все, что здесь осталось от прежнего Киева, будет только больно отдавать в сердце, шевеля остатки юной требовательности. А любовь «за то, что даешь» только еще нарождается. Она еще совершенно робкая и неоформившаяся. Но, вероятно, это она руководит мною, когда мне интересно увидеть «новое». Новое ведь ничего мне не может дать. Ничего…