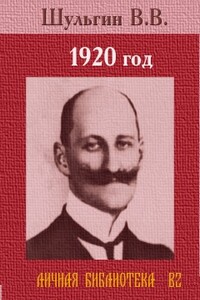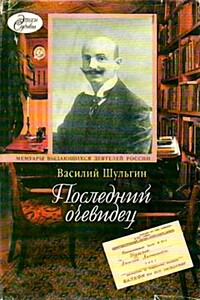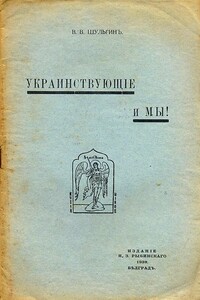Три столицы | страница 45
Русское интеллигентное лицо это синтез быстро усвоенной культуры, и притом культуры многих народов. Оттого оно такое сложное и часто так мучительно-противоречивое…
Вот этого рода тонких русских лиц не видно за столами.
Что же видно?
Там, где столов нет, то есть где отделение «для нечистых», там — чистый «низ». Нечто хохлацкое, своеобразно-красивое. Если бы они не боялись «кубанок», они лускали бы семечки.
Здесь, за столами, — мещанство. Низ, стремящийся кверху. Через два-три поколения, если их не вырежут какие-нибудь «хищники», из этого городского примитива образуется вновь слой интеллигенции, тонкий своей сложностью, своей «благоприобретенно» воспринятой культурой.
Но «тонких черт лица» все же не будет. Неумолимая история наша не дает отстояться вековому отбору. Рок постоянно скусывает русскую верхушку, и массе каждый раз снова приходится лихорадочно ее вырабатывать.
Кто же скусил эту верхушку на сей раз?
Вот эти тонко-чертистые, горбоносистые, которые сидят с русскими вперемешку?
Они, конечно.
Из этого не следует, однако, делать слишком поспешных заключений…
«Каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает». Заслужишь иное, получишь…
Но как заслужить?
Вряд ли об этом я думал тогда.
Я купил газету и делал вид, что читаю. Газета была русская, то есть я хочу сказать, не «украинская», стоила пять копеек. В ней было много бумаги и масса объявлений. А впрочем, я ее не читал. Из-за нее я продолжал свои наблюдения.
Я еще ничего не сказал о женщинах. Были же они здесь?
Были, конечно.
Были ли «дамы»? Но что такое «дама»? Дама — это женщина в шляпке. У женского сословия переход в высшую касту совершается весьма легко. Поэтому они все так ненавидят «платочки», хотя платочек, честное слово, гораздо более идет русскому лицу. Так вот здесь шляпок было весьма мало, и то больше на «тонконосых» дамах. Преобладал платочек, причем немало было платочков красных, во славу ли революции или во славу ридной маты Вкраины, не скажу… Просто, вероятно, — красивости для…
Через некоторое время мне пришла в голову мысль: почему я здесь, собственно, сижу на вокзале?
Это было глупо. В моем мозгу (вероятно, как у всякого эмигранта) прочно засели картины прошлого. Я как-то точно так же сидел на одесском вокзале ранним утром в ноябре 1918 года. Сидел, потому что нельзя было идти — в ночь. Опасно для жизни и имущества. Если и убьют — ограбят.
И теперь мне казалось невозможным «идти в темноту». И я сидел на вокзале, дожидаясь дня.