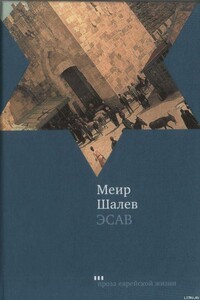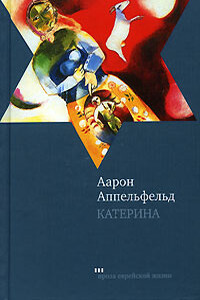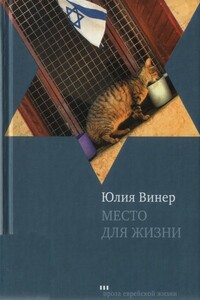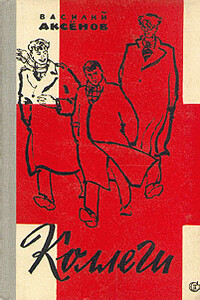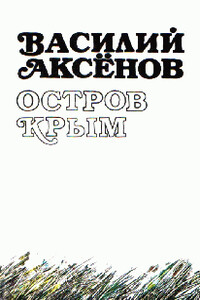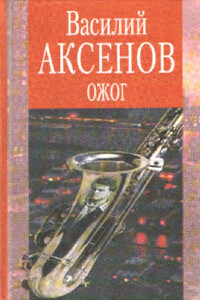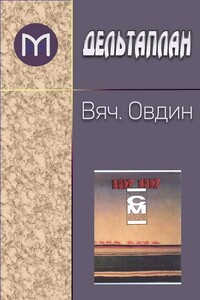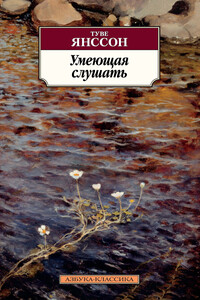Третья мировая Баси Соломоновны | страница 67
— Буду краток. Кому, как не вам, знать, до чего стремительно сокращаются здоровые участки моих полушарий… Вот когда вспомнишь шагреневую кожу!..
— И опять вы не правы! — воспротивился профессор. — Последние снимки и анализы подтверждают как раз то, что вы изволили назвать «надеждой на улучшение».
— И снимки и анализы… — как бы убеждая самого себя, повторил больной. — Чудеса… Я ведь знал, что так будет, а все не могу поверить… Но к делу, дорогой профессор, к делу! Представьте себе детские годы вашего пациента в солнечном мареве благословенной Бессарабии. Детские годы! А ведь я уже пятилетним мальцом остервенело рыл пещеру в крутом склоне соседнего оврага, чтобы — если что — укрыться там от фашистов, изрисовавших наши ворота свастиками. Я рыл и при этом искал ответа на вопрос, в чем причина, что я не такой, как все, и со мной позволительно обращаться не так, как со всеми.
В бухарестском лицее я тоже не доискался ответа. Мои одноклассники, дети учителей и священников, — многие из них были членами Союза архангела Михаила, этакого гитлерюгенда при Железной гвардии, — рьяно отрабатывали на мне приемчики грядущих погромов. Подвесят, бывало, за воротник куртки к верхнему крюку доски и приговаривают: «Скажи спасибо, что не прибили гвоздями». И упражняются в «стрельбе».
Убогие эти «шуточки» на переменах скоро перестали меня ошеломлять: проходя домой через парк Чишмиджиу, я, случалось, видел, как свирепо расправлялись оравы студентов в зеленых рубашках со взрослыми прохожими, которые, по-видимому, были такими же, как я!
Итак, я познавал следствия, но никак не мог постичь причину. Утверждения типа «вы Христа распяли» и невнятные объяснения родичей ничего рассудку не говорили.
Когда же, понуждаемый бедностью, я устроился продавцом в газетный киоск на оживленной привокзальной улице, ответы на неотвязный вопрос посыпались как из рога изобилия. Умудренные университетские профессора, талантливые писатели, популярные политики громогласно объясняли мне со страниц множества правых изданий, что веку «рацио» настает конец, грядет торжество «голоса крови», эры «торжества мифа».
А тот, кому суждено было стать моим пожизненным оппонентом, объяснял, что он и его единомышленники заняты «мистификацией наизнанку, прозревая в обыденном сакральное». «Если Бога нет, все — пепел», — твердил тот, другой, и от этих слов уже тянуло гарью горящих городов и гетто. Потому что прежде всего огонь должен был испепелить таких, как я! Век «торжества мифа» ясно указывал, кто главный враг человечества.