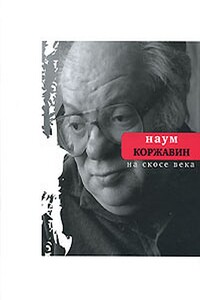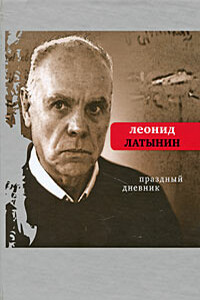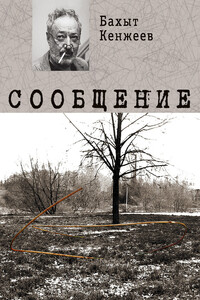Послания | страница 37
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке,
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.
«Каждому веку нужен родной язык…»
Каждому веку нужен родной язык,
каждому сердцу, дереву и ножу
нужен родной язык чистоты слезы —
так я скажу, и слово своё сдержу.
Так я скажу, и молча, босой, пройду
неплодородной, облачною страной,
чтобы вменить в вину своему труду
ставший громоздким камнем язык родной.
С улицы инвалид ухом к стеклу приник.
Всякому горлу больно, всякий слезится глаз,
если ветшает век и его родник
пересыхает, не утешая нас.
Камни сотрут подошву, молодость отберут,
чтоб из воды поющий тростник возрос,
чтобы под старость мог оправдать свой труд
неутолимым кружевом камнетёс.
Что ж – отдирая корку со сжатых губ,
превозмогая ложь и в ушах нарыв,
каждому небу – если уж век не люб —
проговорись, забытое повторив
на языке родном, потому что вновь
в каждом живом предутренний сон глубок,
чтобы сливались ненависть и любовь
в узком твоём зрачке в золотой клубок.
ВОСПОМИНАНИЕ О БРЮСОВЕ
1. «Эй, каменщик в фартуке! Что ты…»
– Эй, каменщик в фартуке! Что ты
возводишь?
– Вали-ка, дурак,
я занят серьёзной работой
секретною, бесповоротной,
не для либеральных зевак.
Но с прежней писательской страстью
канючит властитель сердец.
Он ищет вселенского счастья,
гуманный, взыскательный мастер,
общественных нравов боец.
Не лучше ль ему отравиться,
когда, взбеленившись, плебей
вонзает вязальную спицу
в глаза очевидцу, провидцу,
и если прикажут «убей» —
убьёт. И солжёт, не скрывая
бесстыжего взгляда. Но бард
настаивает, прозревая,
что жертвенность есть роковая
в раскладе божественных карт.
И вот – замирает у гроба
российской словесности. Ах,
ужель эта злая особа —
былая красотка, зазноба
в легчайших атласных туфлях?
А каменщик в кепке неброской,
творец государственных мест,
смывает с ладоней извёстку,
и, выпоров сына-подростка,
говядину жёсткую ест.
2. «Словно тетерев, песней победной…»
Словно тетерев, песней победной
развлекая друзей на заре,
ты обучишься, юноша бледный,
и размерам, и прочей муре,
за стаканом, в ночных разговорах
насобачишься, видит Господь,
наводить иронический шорох —
что орехи ладонью колоть,
уяснишь ремесло человечье,
и ещё навостришься, строка,
обихаживать хитрою речью
неподкупную твердь языка.
Но нежданное что-то случится
за границею той чепухи,
что на гладкой журнальной странице
выдавала себя за стихи,
что-то страшное грянет за устьем
той реки, где и смерть нипочём, —
Книги, похожие на Послания