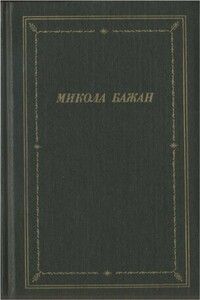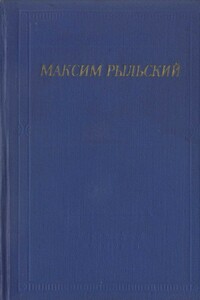Стихотворения и поэмы | страница 11
Однако тот же Ваншенкин свидетельствует о следующем. Когда в 1946 году он, двадцатидвухлетний демобилизованный сержант, пишущий стихи и мечтающий о литературе, начинает посещать поэтические вечера, он вдруг обнаруживает, что помимо Твардовского, Исаковского, Суркова и Симонова существует, оказывается, еще одна военная поэзия, ему неведомая, что гремит она на вечерах, встречая бурное одобрение слушателей, что есть у нее свои лидеры, признанные, несмотря на отсутствие толстых книг: Луконин, Гудзенко, Межиров… Стихам, которые читаются на этих вечерах, со временем суждено войти в антологии и хрестоматии, но вот парадокс момента: Константин Ваншенкин, который тоже прошел войну, и уж года три как сам пишет стихи, и, конечно же, чужие читает где только находит, — он слышит все эти имена впервые!
Тут даже не в публикациях дело: в конце концов, кое-что напечатано в армейских и фронтовых газетах — по этим-то газетам, собственно, поэты новой волны и знают друг друга: С. Гудзенко и М. Луконин, А. Недогонов и А. Межиров, М. Дудин и С. Орлов, сами они уже ясно ощущают себя поэтическим поколением, но ни широкая читательская аудитория, ни высокая профессиональная критика не знают их. Или не признают.
А ведь речь идет о людях, которые уже к началу войны чувствовали себя поэтами. Кто помоложе — Е. Винокуров, Б. Окуджава, да тот же К. Ваншенкин, — осознали себя поэтами уже в окопах. Но первые-то: С. Гудзенко и А. Недогонов, М. Львов и Б. Слуцкий — успели раньше. Если не в большую печать, то в профессиональную поэзию. Заметим, что, отбывая на фронт в 1941 году, Луконин и Наровчатов направлялись уже не в батальон, как в 1939-м. Они были направлены в армейскую газету…
Судьба, правда, распорядилась иначе. Не в газете развернулись события. А было поле на Брянщине, крик: «Окружены!», прыжок из горящего грузовика, задыхающийся бег к лесу, удар пули, кровь, хлюпающая в сапоге. Там, в грузовике, сгорел вещмешок с рукописью поэмы, но было не до стихов: впереди — шестьсот верст пешком к своим. Наровчатов рядом, шутки невеселые: «Жирно им будет ухлопать сразу двух поэтов!» Однако чуть не ухлопали, уже на последних из этих шестисот верст, когда вдвоем перебегали шоссе. Ни Наровчатов, ни Луконин не описали этот эпизод в своих воспоминаниях[17] (может, оттого, что было слишком обидно?): немецкая штабная машина вынырнула неожиданно, тормознула перед ними, и замерли под взглядом немецкого офицера два русских оборванца: один — синеглазый, светлый, другой — черный, словно обугленный…