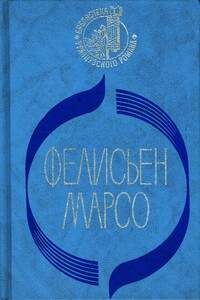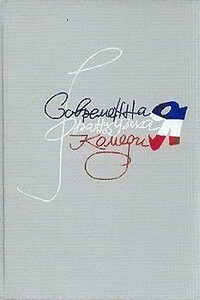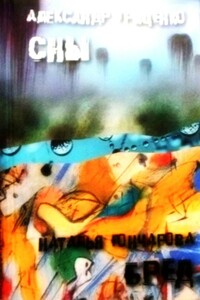Капри - остров маленький | страница 94
— Я мог бы быть вам полезным. Я разбираюсь в мебели.
— А как посмотрит на это господин Форстетнер?
— Он не станет возражать.
— Но почему вы хотите уйти от него?
— Что за вопрос! Потому что мне необходимо зарабатывать на жизнь.
Мейджори медленно идет по улице. Останавливается перед магазином. Антиквар идет к двери. Но за витриной, с улицы, Мейджори с испуганным видом показывает: нет, нет.
— Допустим. Надо подумать, — говорит антиквар, обращаясь к Андрасси.
Но у него озабоченное, нерешительное лицо. Андрасси возвращается на площадь.
Куда ни глянь — везде Форстетнер. А перед ним — его портфель. Теперь уже закрытый.
А рядом Рамполло — словно часовой.
И одна из тех истощенных женщин, которых нанимают, чтобы они носили корзины с овощами или камнями. Они носят их на голове.
— Да, — говорит Лаура Мисси. — Возможно…
Четрилли нежно гладит ей руку.
И Жако.
Жако недоволен. Мерзавцы. Везде одни мерзавцы.
Я попался на том, что это князь. Но итальянские князья — такое дерьмо, я вам скажу. Нет, Жако недоволен. Ну вот, опять этот венгр, уже возвращается. Я упустил хороший момент. И он по-детски надувает толстые губы. Смелее, еще одно усилие! Жако встает, улыбается покоряющей счастливой улыбкой. Прямо воплощение счастья, этот Жако. Как фавн. Такой любого соблазнит. Он идет вперед, слегка задевая старого Форстетнера, и улыбается ему очаровательной детской улыбкой.
— О! Извините, — говорит он приятным голосом.
Но Форстетнер даже не поднимает глаз. Только отодвигает колено. Мерзавец! Со своим портфелем!
А посреди площади, сидя на стуле, спит, словно малое дитя, безразличная к шуму, леди Амберсфорд. Спит, словно после экстаза сладострастия — на этот раз ей хватило созерцания и прикосновения.
Я совершенно забыл сказать, что в этот же день на вилле Сатриано, наконец, расцвел их знаменитый дурман, самый красивый на острове, самый мощный, самый обильный. Кстати, этого события ждали. Каждое утро госпожа Сатриано, накинув на плечи желтовато-зеленый халат, спускалась в сад, щупала длинные стручковидные зеленые бутоны, внимательно следила за их набуханием. Однако хотя события этого всегда ждут, цветение дурмана воспринимается как нечто внезапное и триумфальное. Это как фейерверк. Известно, в какой час и в каком квадрате неба он должен вспыхнуть. И все же огненные снопы заставляют вскрикивать даже самых спокойных людей. Раскрытие бутонов дурмана — настоящий фейерверк. Еще вчера это было невысокое дерево, напоминающее по форме фиговое, только немного меньше… И вдруг в одну ночь — настоящий праздничный перезвон колоколов. Все стручки внезапно раскрываются и превращаются в длинные белые колокольчики, которые при малейшем дуновении ветра покачиваются, как настоящие колокола или балерины, начинающие танец, как мундштуки сотен иерихонских труб, еще не поднятых, но уже трепещущих в ожидании сигнала Иисуса Навина. Как колокольчики, но только подлиннее, белые с зелеными прожилками; как простроченные в пяти местах накрахмаленные юбочки, отчего они выглядят небрежно приподнятыми; эти трубы будто сделаны скорее для слуха, чем для обоняния, скорее для уха, чем для носа; кажется, они вот-вот начнут играть зорю, ожидаешь, что ветерок донесет сейчас звуки фанфар, как в бетховенской Девятой симфонии или вагнеровском Тангейзере, а не этот сладковатый аромат миндального молока, который, как говорят, если долго его вдыхать, может оказаться смертельным.