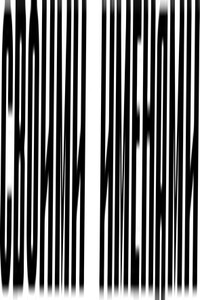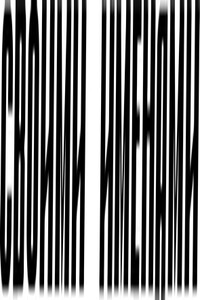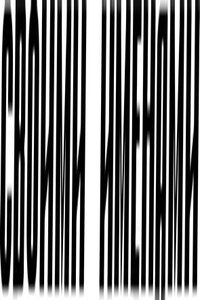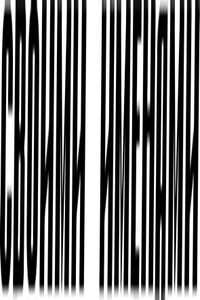Газета "Своими Именами" №4 от 22.01.2013 | страница 34
Одно замечание: родители (а основная ответственность за воспитание ребёнка, похоже, постепенно перекладывается на них) сразу должны обо всём этом забыть.
И про наследственность, и про свою артистократическую либо крестьянскую кровь, и про то, что «я вырос нормальным человеком без книг (вариант: без отца, без школы, без высшего образования, без штанов), и он (она, оно) вырастет...».
Задача родителей: уверенно, но ненавязчиво дать ребёнку всё, что вы в силах дать, и ещё чуть больше.
Я никому не советчик, но если вдруг кого-то интересуют мои нехитрые советы, то вот они: читайте ребенку вслух (никакой аудионоситель с той же самой сказкой не заменит ощущение отцовского или материнского тепла и голоса - только в этом случае ребёнок поймёт, что с книгой и текстом связаны самые яркие и удивительные ощущения), ходите с ним на каток, сломайте телевизионную антенну и покажите ему, как прекрасно можно жить вообще без телевидения, отключайте хотя бы часа на три в день телефон (а заодно и Интернет), и покажите, что в мире много интересного помимо Сети и смс-переписки... Ну и так далее, что тут вас учить, сами всё знаете.
И только после того, как вы дали ребёнку всё (и ещё немного) можно, глядя на своё глубоко повзрослевшее дитя, сказать (или подумать): «Что-то не вышло из тебя толка. Наследственность дурная. Весь в бабку жены пошёл».
Только после этого!
На самом деле, тезис о том, что человек свободен, и если ему хочется, всего добьётся сам, – прочитает нужные книги, перейдёт с шансона на Рахманинова, выучит латынь, станет таким же красивым и успешным, как Ксения Собчак, - придумали наши либеральные мыслители в конце прошлого века. Мы до сих пор не можем избавиться от всех благоглупостей, что они успели произнести, пока занимали 99 процентов эфирного времени.
Большинство из этих людей удивительным образом не заметили, что прежде чем они «всего добились сами», их учили, лечили, кормили, холили, лелеяли, а потом опять учили, учили и учили.
О человеке нужно заботиться, тем более, если он ребёнок.
Что бы нам ни рассказывали теперь про русского крестьянина, как хорошо его кормили до 1917 года и как много он читал Библию по вечерам, описание этого самого мужика в русской классике, хоть у Льва Николаевича, хоть у Антона Павловича, оставляет гнетущее впечатление. Это вроде бы такой же человек, как аристократ, но всё-таки немножко не такой: грязный, диковатый, туповатый... хотя внутри хороший, добрый.