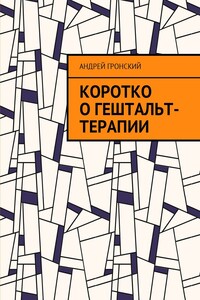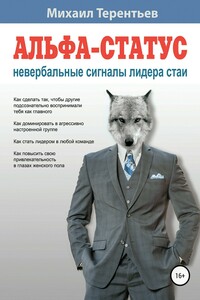Психическая травма | страница 28
Один из главных выводов, который делает Калшед, состоит в том, что «травмированная психика продолжает травмировать саму себя» [16], более того — эти люди постоянно обнаруживают себя в жизненных ситуациях, в которых они подвергаются повторной травматизации. Недостаточно квалифицированная психотерапия может оказаться одной из таких ситуаций и, несмотря на желание терапевта изменить жизнь пациента к лучшему, может полностью разрушить его надежду хотя бы немного уменьшить тяжесть страдания и обрести смысл существования.
Чтобы не возвращаться к аналитической психологии и ее роли в изучении психической травмы, следует отметить, что и Фрейд, и Юнг сходились в том, что в основе симптомов психического страдания всегда лежит некий болезненный аффект, который — и это очень важно понять — находится в психике в особом «связанном», непереносимом и поэтому — отщепленном от воспоминаний состоянии. Несколько упрощая: аффект существует как бы сам по себе (где-то в «глубине»), а воспоминание — само по себе (в сознании); хотя их связь все-таки присутствует, но в «заблокированном» виде; и именно этот «блок» становится «ядром» психопатологической симптоматики. Отсюда следует, что терапия успешна только в случае реконструкции травматической ситуации в безопасных условиях и восстановления нарушенных психодинамических связей с высвобождением аффекта (и ликвидацией «блока»). Я не уверен, что те, кто не имеет солидной психоаналитической подготовки, воспримут даже упрощенный вариант этого пояснения, но хотел бы надеяться. И еще одно примечание: ставшее модным в современной психотерапии понятие «реструктуризация травматического опыта» как раз и предполагает этот вариант терапевтической работы, но не в форме «кавалеристской атаки» на и без того травмированную психику пациента, а лишь в процессе (скорее — в конце) достаточно длительной терапии, описывать все этапы которой для специалиста-аналитика нет необходимости, а для неспециалиста — нет смысла.
Глава 11. Вторичные психические травмы
До Бесланской трагедии мы предполагали, что утрата ребенка — это весьма редкое событие, преимущественно индивидуального «порядка», и не так уж много специалистов систематически занимались этой проблемой. Сказывалось, вероятно, и ощущение стыдливости и даже некоторой брезгливости, которые все мы, как справедливо отмечает французский аналитик М. Торок [72], испытываем при соприкосновении с интимным переживанием горя. Кроме уже упомянутой М. Торок, в этой главе я буду апеллировать к еще двум авторам французской школы — Андре Грину [11] и Анри Верморелю [7], работы которых представляются чрезвычайно интересными, особенно с точки зрения влияния утраты ребенка на семейный фон и ее проекции на других детей.