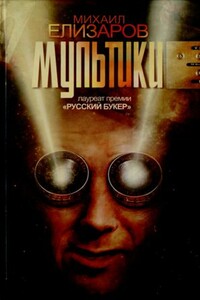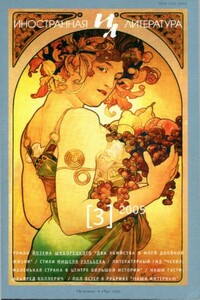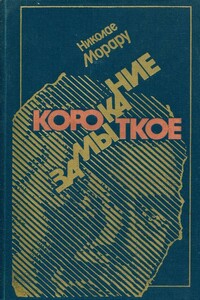Ногти | страница 55
— Не знаю, Семен. Может, ебля с пляской, может — ничего… У тебя последнее слово.
Он покачал головой:
— Хуета хует…
И я свернул шею Голубю Семену Григоренко.
Фобия
Бежал, миленький, бежал и думал, что скоро стемнеет, что фонари — не одуванчики, провода похожи на струны, такие же серебристые и гудящие.
А провода были тусклые, тишина стояла ватная. С ума сойти! В лужах тоже есть вода! Хочешь — пей, хочешь — плавай. Оттолкнусь ногами и заскольжу по течению, вдоль тротуара, вместе со щепками и прошлогодними листьями.
Существуют механические часы, электронные, кварцевые, а живем-то, братцы, по минутам!
На жуткой высоте парит птица, не сдвигается с места, точно приклеилась. Она библейских размеров. Сколько помета в такой особи? Никто не знает.
Хорошо быть близоруким — взгляд импрессиониста на острые силуэты далеких зданий, сквозь которые уже прорезается розовый закат, нежный и подрагивающий, как полное вымя. Вечерняя погода лирична. Это учительница словесности вышла под ручку с двумя сыночками, Климом и Максом.
Листва бешено аплодирует каламбуру!
Я пиит, я срифмовал «ласточка» и «задница», «онанизм» и «ничего общего с ним». Я уничтожаю собой время. Можно предположить, что мне позвонила давняя знакомая. Я бегу к ней, хочу стать предком, сигать через костер, совокупляться на траве.
Старая дорога, глухой сквер. Гнездятся на жиденьком солнце пенсионеры. Они дремлют, впившись желтыми лапками в колени, морщинистые веки не дрожат, и кажется, будто в их черепах вместо глаз — грецкие орехи.
Толстая девка с верблюжьим бюстом желает знакомиться. Курит страстно и зубы скалит. Вокруг клубнеобразного носа вьется губительный дым. Создается впечатление, что внутри девки что-то подгорело. Ненавижу скамеечные романы! «Любите ли ебаться?» — «Отчего ж не любить. Люблю».
Скотство! Девка кричит, и слова выскакивают из ее горла, как эмаль раскаленной кастрюли:
— Он сказал, что у меня чудная писечка!
Мне все равно.
— Он сказал, что у меня шикарные сисечки!
Лопасти пропеллера. Дура, мне все равно. Я не ревнивый.
— Ревнивый, ревнивый, — бубнит моя мама. — Совсем застращал барышню. А ты тоже хороша, милая, нашла кого бояться! Он у нас смирный. Я тебе все про него расскажу…
Я шепчу:
— Мама, не надо, не говори…
— Расскажу, блядь, и точка! — хрясть мокрым полотенцем сына по глазынькам. А потом к девке обращается сладко: — Слушай, голубушка, — и зашлась от волненья, схаркнула мокроту, — завернутый в пеленки, прел младенец Алексей! — выдохнула. — Ну вот и рассказала. Дожила, слава тебе, Господи, — мама трет закисшие глаза. — Теперь и умереть можно, — но не умирает, а наливается жизненными соками, похохатывает: — Ты смотри — писечка?! Ну не прелесть разве?!