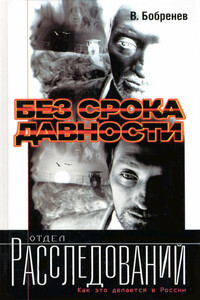Братство обреченных | страница 38
Через пару лет, правда, знаменитые группы «Альфа» и «Вымпел» вернулись обратно в ФСБ. С тех пор Шилкин и Тюничев стали часто ездить в командировки. Куда и зачем — не знало даже начальство. Вопросов никто не задавал. С чего вдруг Тюничев так разговорился?
— Не может быть, — недоверчиво произнес Геннадий. — Тут такой шум стоял, аж до Москвы дошло! Никто не даст это дело на тормозах спустить!
— Ты как вчера родился… — Тюничев отмахнулся.
— Не знаю, не знаю… Мне трудно поверить, что кто-то будет покрывать… К тому же это дело престижа: контора не должна позволять убивать своих людей. Да еще так: целыми семьями. Кто мы такие после этого? Я никогда не поверю, что наверху этого не понимают.
— Да им плевать! Никто не будет ворошить этот муравейник…
— Какой муравейник?
— Что значит — какой? — Тюничев пристально посмотрел на Куравлева.
Геннадию показалось, что в глазах собеседника мигнул огонек. Будто переключился какой-то тумблер. Оживление спало. Тюничев поник, разочарованно погрустнел.
— Ладно, мне пора, — неожиданно сказал он.
Они вышли из пельменной и попрощались. От выпитого у Куравлева, как говорили в подразделении, включился внутренний подогрев. Но тепла хватило ненадолго. Ледяной ветер ударил в лицо. Вдруг он всей кожей почувствовал, как серо и уныло на улице.
«Деревья без листьев беззащитны, — эта мысль пронзила Куравлева. — Они словно тянут руки — голые кривые ветки — с мольбой о помощи…» На него вновь накатило то состояние, когда он начинал впитывать окружающий мир. Будто он лишился телесной оболочки. Все краски, звуки, запахи хлынули прямо в душу. Геннадий чувствовал трещины, что бегут по асфальту: они бежали и в его душе. Он ощущал скрип деревьев и рокот моторов.
Это не объяснить никак. Но остановка, от которой только что отошел автобус, не просто пуста. Она — опустошена. Люди, стоявшие на ней, наполняли ее своей энергетикой. А теперь их нет. Лишь ветер заметает следы человеческого тепла. И Куравлев всей кожей чувствовал пустоту остановки: от нее и от всего, что было вокруг, веяло безнадежностью и тоской.
Он вдруг увидел себя со стороны: серый человек в потертой курточке бредет вдоль кирпичных зданий. Стертые подошвы шаркают по асфальту. А в лицо дует холодный ветер, и ведь не спрятаться, не закрыться! Так стало жалко себя, что плакать захотелось!
«Мне уже тридцать лет! — мысленно воскликнул он. — Чего я достиг?»
В детстве он мечтал об интересной работе, которая бы захватывала его целиком. Больше всего Гена не хотел работать «с восьми до пяти», как все: уныло стоять у станка или корпеть за письменным столом. А потом приходить домой, ужинать и ложиться на диван перед телевизором. Утром просыпаться затемно. Наскоро завтракать и брести на работу, где ждал станок или письменный стол. И так по кругу. Целую жизнь. Что может быть грустнее?