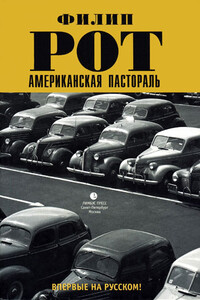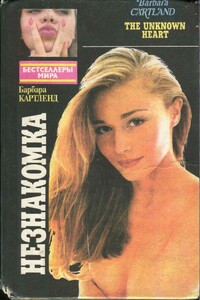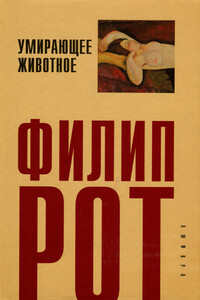Профессор Желания | страница 26
В жалкой клетушке над китайской прачечной я ищу утешения у «Тертой» Терри, тридцатишиллинговой шлюхи из видавших виды лондонских молочниц, называющей меня похотливым паршивцем и умеющей — по меньшей мере, до сих пор ей это удавалось — подмахнуть мне так, что я взлетаю прямо на седьмое небо. Взлетаю, но только не сегодня; таланты Терри в этот мой визит пропадают втуне. Она показывает мне потрясающую коллекцию порнографических открыток, которую припасла специально для таких случаев; с красноречием, которому позавидовала бы миссис Браунинг,[14] она расписывает мне способы и позиции, коими собирается меня осчастливить; она воздает щедрую хвалу стереометрическим параметрам моего члена и глубине, на которую он способен проникнуть в нее, если, конечно, для начала соизволит встать, но пятнадцать минут тяжких и самоотверженных трудов над свернувшимся, как младенец в утробе, отростком не приносят сколько-нибудь значимых результатов. По мере сил черпая утешение в ласковых словах, сказанных ею на прощание («Сегодня просто не твой день, парень!»), я отправляюсь в обратный путь — к незаконченному письму о скверне порока, в которой я то ли погряз, то ли все-таки нет.
Как вскоре выясняется, мне и впрямь лучше было бы сосредоточить умственные и душевные усилия на проблеме злоупотребления кеннингами в исландской скальдической поэзии второй половины двенадцатого века. Это мне впоследствии могло бы хоть как-то пригодиться. Тогда как тягомотина, которую я разводил в письмах в Стокгольм, не только не помогла мне по-настоящему разобраться в собственных чувствах, но и не сподобила хотя бы поверить, будто я в них разобрался. А вот доклад о скальдической поэзии, прочитанный мною на семинаре, побудил моего научного руководителя пригласить меня на отдельное собеседование, усадить прямо перед собой в кресло и с легчайшей долей иронии осведомиться: «Скажите мне, Кипеш, неужели вас и вправду интересует древнеисландская поэзия?»
Профессор, выговаривающий мне как лентяю и тупице! Вещь, которая раньше показалась бы просто-напросто немыслимой! Столь же немыслимой, как шестнадцать ночей, проведенных мною с двумя девицами сразу. Столь же немыслимой, как попытка самоубийства, предпринятая Элизабет Эльверског! Эта, пусть и деликатная, выволочка настолько поразила меня, а поразив — унизила (особенно если вспомнить, что подвергся ей человек и без того обвинявший себя во всех смертных грехах, причем не в каком-то абстрактном духе, а с позиций семейного адвоката Эльверскогов), что я с тех пор так и не набрался смелости вернуться на семинар; подобно Луи Елинеку, я даже не отвечал на письменные приглашения в деканат поговорить о причинах моего исчезновения. Подумать только! Я всерьез решил вылететь из аспирантуры и провалить собственное стипендиатство.