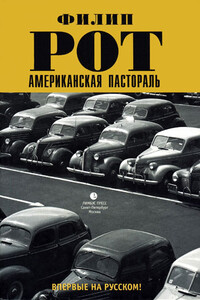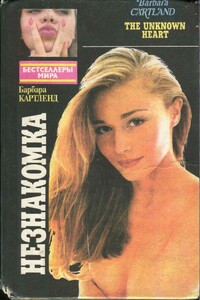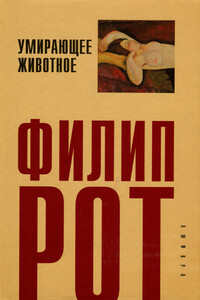Профессор Желания | страница 19
Разочарование оборачивается подлинным отчаянием. У меня в бумажнике телефон здешнего преподавателя палеографии, врученный мне его личным другом, одним из сиракьюсских профессоров. Но как позвонить уважаемому ученому и огорошить его известием, что уже через час после прибытия я решил отказаться от Фулбрайтовской стипендии и собираюсь немедленно вернуться в Америку? «В стипендиаты выбрали не того парня, я недостаточно серьезен, чтобы сносить такие лишения!» Дородная и добрая капитанша (моя природная смуглость убедила ее в том, что я армянин, и сейчас она без устали рассказывает мне что-то о новых коврах, которыми супруги вот-вот украсят гостиную) проводит меня к телефону, висящему на стене в холле. Я набираю номер. Я на грани того, чтобы расплакаться. (А на самом деле я на грани того, чтобы, заплакав, позвонить папе с мамой.) Но как бы ни был я испуган и огорчен, сильнее всего, оказывается, меня страшит, что мой испуг и огорчение заметят другие. Поэтому, когда профессор берет трубку, я опускаю свою на рычаг.
Четырьмя или пятью часами позже — в Западной Европе уже наступила ночь, и моя первая английская трапеза (консервированные спагетти в соусе на ржаном тосте) более-менее улеглась в желудке — я отправляюсь на некий задний двор, о существовании которого в Лондоне мне рассказали на борту теплохода. Двор этот называется Пастушьим Рынком, и посещение его вносит существенные коррективы в мои мысли о том, как тяжко приходится в Англии стипендиату Фулбрайта. Да, прежде чем приступить к углубленному изучению вопроса о том, чем же все-таки роман отличается от эпоса (и наоборот), я начинаю понимать, что хождение за три моря имеет и свои положительные аспекты для никому не известного парня вроде меня. Трепеща от ужаса при мысли о том, что мне вслед за Мопассаном суждено умереть от дурной болезни, я тем не менее, проведя в пресловутом заднем дворе всего несколько минут, снимаю проститутку — первую представительницу древнейшей профессии в моей жизни и, что куда важнее, первую из трех моих сексуальных партнерш, которая родилась не в США (и не в штате Нью-Йорк, если уж быть точным до конца) и к тому же появилась на свет куда раньше меня самого. Строго говоря, когда она садится на меня верхом, оказавшись неожиданно тяжелой, и пускается вскачь, я с еще большим трепетом и отвращением соображаю, что эта женщина, груди которой, подобные двум суповым кастрюлям, сходятся сейчас у меня над головой (а ведь из-за этих грудей-гиппопотамов и из-за столь же впечатляющей кормы я и выделил ее в толпе конкуренток), родилась, должно быть, еще до начала Первой мировой войны. Я поневоле начинаю прикидывать, что это было за время, перед публикацией «Улисса», перед… но прежде чем мне удается вписать мою третью женщину в историко-временной контекст, куда раньше, чем мне хотелось бы, в таком темпе, словно один из нас — то ли я сам, то ли моя партнерша — опаздывает на поезд, я исторгаю из себя все до той поры сдерживаемое, причем при непрошеной помощи ее уверенной, быстрой и чуждой малейших сантиментов руки.