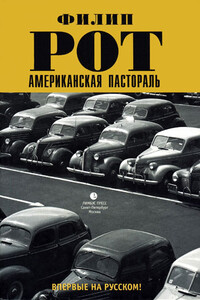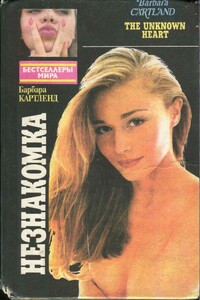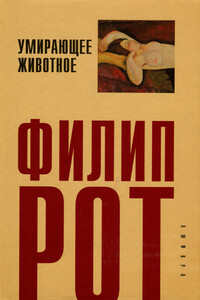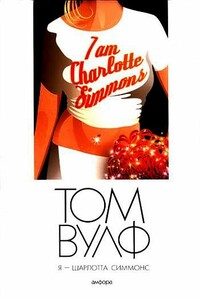Профессор Желания | страница 18
Этой линии размышлений и рассуждений я и придерживаюсь в беседе с Шелковой; она, уверен я, моя палочка-выручалочка, которая со временем (будь оно проклято, это время, попусту потраченное на разговоры, сколько океанических оргазмов не состоялось, сколько фантастических «кончит» прошло мимо нас стороной!) обернется для меня невиданными и неслыханными усладами, в ближней перспективе никоим образом не просматривающимися. Тогда как на самом деле мне предстоит отринуть логику, остроумие, эрудицию и гуманитарное образование как таковое, мне предстоит отбросить все доказательства разума и доводы рассудка, мне предстоит, наконец, отшвырнуть собственное достоинство — и ныть, и клянчить, и вопить, как изголодавшийся сосунок, прежде чем Шелковая, которой наверняка никогда еще не доводилось сталкиваться со столь жалким шиздострадальцем, снизойдет до того, чтобы позволить мне припасть губами к ее обнаженному торсу. А поскольку она и впрямь славная девица, доброжелательная и приветливая, ей, разумеется, не хватит жестокосердия, не хватит ледяной непреклонности, чтобы оттолкнуть даже такого настроенного на самый похабный лад Ромео, даже такую внесенную в черный список деканата Синюю Бороду, даже такого приставучего Дон Жуана и несвятого Иоанна Соблазнителя, как я, так что мне будет дозволено целовать ее очаровательный («Ты же наговорил о нем столько красивых слов!») животик — но и только. «Не выше и не ниже, — шепчет она, запрокинутая мною на стиральную машину посреди кромешно-черной прачечной в подвале женского студенческого общежития. — Дэвид, я сказала, не ниже! Да и как тебе может прийти в голову такая гадость?»
Так, разрываемый усердной учебой и мириадами объектов желания, логическими доказательствами и абсурдными запретами, формируется мой внутренний мир. Родной отец не понимает меня, агент ФБР не понимает меня, Марчелла «Шелковая» Уолш не понимает меня, никто из здешних «сестер», никто из студенческой богемы не понимает меня, даже Луи Елинек меня, строго говоря, не понимал, хотя (как ни парадоксально) этот якобы практикующий гомосексуалист и впрямь был моим ближайшим другом. Нет, никто не понимает меня, да я и сам-то себя не понимаю.
В Лондон я прибываю стипендиатом по литературе после шестидневного плавания через океан, путешествия по железной дороге от Саутгемптона и утомительно-долгой поездки на метро до Тутинг-Бек. Здесь, на бесконечной улице, застроенной домами в лжетюдоровском стиле, мне и предстоит жить на частной квартире по выбору иностранного отдела администрации Королевского колледжа, а вовсе не в Блумсберри, как бы того хотелось мне самому (о чем и было заявлено заблаговременно). После того как здешние хозяева — отставной армейский капитан с женою, в чьем чистом, но тесном домике мне предстояло квартировать и столоваться, — провели меня в уготованную жильцу маленькую мрачную комнату на мансарде, я оглядел чугунную кровать, на которой должен был провести примерно триста ближайших ночей, и в тот же миг праздничное настроение, с которым я пересекал Атлантику, как ветром сдуло; растаяла вся радость, вызванная избавлением от строгого распорядка студенческих лет и заодно чересчур плотной родительской опеки. Прозябать в тутинг-Бек? Вот в этой чердачной каморке? Ужинать за одним столом с капитаном и его усиками ниточкой? И чего ради? Ради углубленного изучения легенд Артурова цикла и древнеисландских саг? Стоит ли овчинка выделки? А все из-за того, что я такой умный.