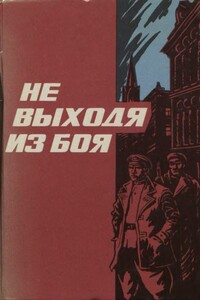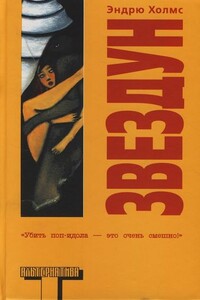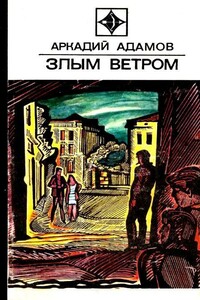Пропитанный хламом и чернотой, засаленный и загнивший бар, застрявший где-то между облаками безветренности, приветливо распахнул для меня свои скрипучие стеклянные двери, дохнув мне в лицо едкой смесью табака, сгоревшего масла и тихого, едва слышного джаза, что лился со стороны тонувшей в темноте сцены.
В тумане полумрака я сразу разглядел две фигуры, что сидели за уединенным столиком посреди зала. Узнав их спины, облаченные в потертые, выцветшие гимнастерки, я направился к ним.
Джонни полным серьезного молчания взглядом сопровождал меня, пока я рушился на скрипучий деревянный стул подле него, а толстяк Фредди, самый толстый и добродушный из всего благородного рода добродушных толстяков, тут же поставил передо мною полную, набитую до краев пеной кружку пива. Я на миг утонул в безграничном, белом, взрывающемся море, словно одинокий, забытый десантный катер, что несся через вскипающие пламенем волны к холодному, скалистому, ощетинившемуся хаосом и безграничной яростью берегу.
Тихо играл джаз. На грязном потолке, оклеенном желтыми, подгнившими обоями, серело небольшое мокрое пятно. Джо и Фредди смотрели на меня. Их глаза были полны спокойной радости и серьезной грусти.
– Сколько мы не виделись? – спросил я. Фредди пожал плечами, подняв воротник своей гимнастерки. Ему было холодно.
Джо, неотрывно глядя на меня, отхлебнул пива. Под его благородным орлиным носом остался белесый след пены.
– Словно облако, – засмеялся Фредди, тыкая на пушашийся след на лице Джо. – Словно облако! – повторил он, заливаясь глубоким, грудным смехом.
Джо смотрел мне в глаза. Где-то на их дне, в пыльной дали, я видел это облако. Изрезанное, исполосованное, оно стенало под гнетом стали и пламени, что ворвались в него, окружили со всех сторон, схватили сверкающими когтями и разорвали на тысячу тысяч тлеющих обломков.
Словно облако…
Джо утер пену с губ. Джаз продолжал играть. Пятно на потолке расползлось, словно неведомый серый остров на грязно-желтой карте мира.
Фредди дышал себе в руки, пытаясь их согреть. Он все еще тихо, про себя, смеялся, представляя пушистое свежее облако, что выросло под благородным носом нашего товарища.
– Сколько мы не разговаривали? – спросил я.
Джо покачал головой. Он не смеялся. Он никогда не смеялся. Не меняясь в лице, он медленными, плавными движениями закурил мятую, промокшую папиросу. Табачный дым охватил меня. Тихие, аккуратные удары джаза гудели в моих ушах, отдаваясь грохотом тысяч пушек. Охваченный смогом, я сидел, словно прибитый ржавыми свинцовыми гвоздями к стулу. Я утер с лица комья раскаленной земли, что впились мне в глаза.