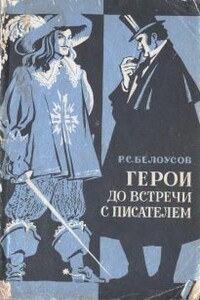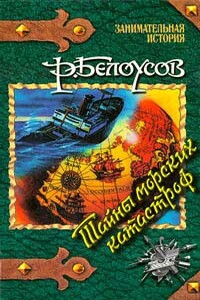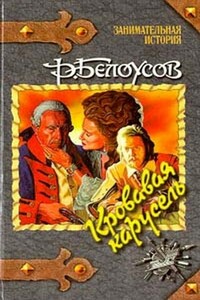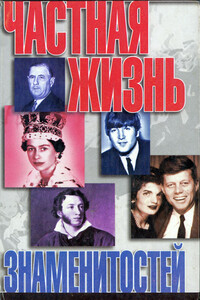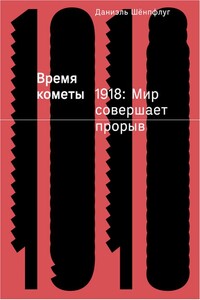Вещий Авель | страница 55
Через шесть месяцев после убийства отца Александр I торжественно въехал в Москву. Здесь по давнему обычаю состоялась его коронация. Толпы народа приветствовали своего царя-батюшку. Люди бросались на колени, исступленно целовали его сапоги и ноги его коня. Это походило на безумие. Молодой царь приветствовал толпу, силился улыбаться, но наедине с самим собой часто впадал в такое уныние, что боялись за его рассудок.
Очевидец торжеств коронации писал, как юный царь «шел по собору, предшествуемый убийцами своего деда, окруженный убийцами своего отца и сопровождаемый, по всей видимости, своими собственными убийцами».
Угрызения совести, горечь упреков самому себе мучили его все больше. И все больше с годами в нем проявлялись мистические настроения. Он стал знаться с гадалками и ворожеями, встречался с квакерами, молился с ними и, как и они, верил в духовное совершенствование человека. Александр I почитал проповедника и пророка Квирина Кульмана, заживо сожженного как еретика в срубе. Жестокая казнь над несчастным поборником божественной справедливости состоялась в 1689 году в Москве.
Александра привлекало стремление квакеров к добру, вера в то, что в каждом вечно пребывающий Бог отдаляет от греха и никогда не противоречит Священному Писанию и разуму. По душе ему было и то, что молились они без алтарей и образов, без пения и музыки, не признавали никаких церемоний, обрядов и таинств.
В России император будет посещать радения ясновидящей Е. Ф. Татариновой, которые, кстати говоря, проводились в Михайловском замке. Знаменитая тогда пророчица, возглавлявшая секту хлыстов, своими откровениями приводила царя «в сокрушение, и слезы лились по лицу его».
Словом, религиозное рвение Александра I, с годами развившееся, было, несомненно, следствием убийства отца и его участия в этом злодеянии. Проще говоря, он стремился искупить вину и замолить грех. Недаром он скажет: «Я должен страдать, ибо ничто не может смягчить моих душевных мук». Он не сказал «угрызений совести», а так было бы точнее.
В дни таких душевных мук ему однажды повстречалась примечательная женщина — баронесса из Риги. Звали ее Юлия Крюденер, она считалась русской (была внучкой фельдмаршала Миниха, дочерью сенатора и женой посла. — Р. Б.), но русский язык абсолютно не знала. Ее нельзя было назвать красавицей, но она отличалась редкой выразительностью и грацией. Муж ее, дважды вдовец, был на двадцать лет старше, это, можно сказать, оправдывало ее многочисленные романы. Один из них оставил заметный след в ее сердце.