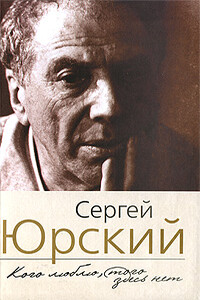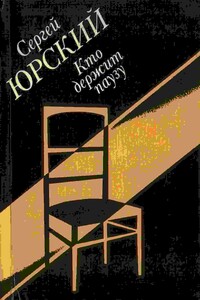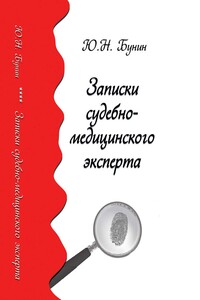В безвременье | страница 94
— Счас я кончу твоего старика…
Я говорю:
— Уйди! Уйди, умоляю! Уйди, гад! Что хочешь отдам, только уйди, умоляю, гад!
Он смеется и ровно говорит:
— Дай десятку.
Я кинулась к пальто — оно тут же на вешалке висело. Шарю по карманам и нашла. Держу десятку в руке, смотрю в эти узкие глазки — и со всей силы открытой ладонью с этой десяткой ему в рожу. Только руку ушибла — как о бревно ударилась. А он зубами десятку ухватил, оскалился, носом пошмыгал и, не выпуская десятки, «пока!» — говорит. И ушел.
Перетащила я Вадима в комнату. Немного пришел в себя. Хотела «скорую» вызвать — он ни в какую:
— Мне лучше, мне лучше.
Вроде и вправду лучше стало — дыхание нормальное, двигается. Но лицо серое-серое.
Потом даже совсем ничего. Даже ужинали за столом. Он опять шутить пытался, но уже не смешно было. Легли. Обнял он меня, налег, а я чувствую — озноб колотит. Выскользнула.
Говорю:
— Врача надо, — и одеваюсь.
А он:
— Утром, утром! Иди сюда. Дай же мне с тобой последнюю ночь побыть.
Я заплакала. Сели рядом.
— Больно? — спрашиваю.
Он говорит:
— Иди ко мне.
А я:
— Лежи, лежи, я тут, я с тобой… (Или я его на «ВЫ» называла? Нет, тогда на «ТЫ».) — И глажу по голове и целую. Он сдался. Утих.
Потом говорит:
— Я тебе целый день рассказывал, веселил тебя, а у тебя вон, оказывается, какие знакомые. За это ты мне теперь рассказывай. (Господи, что ж я, уже забываю, что ли? Значит, и он меня на «ТЫ» звал? или нет?)
Я говорю:
— Лежи, лежи.
И стала рассказывать, как впервые узнала про него. Он молчал. Говорила я долго. Он так ни слова и не сказал. Я и не знала тогда, дослушал он до конца или нет. Убаюкала.
Утром лучше не стало. Он дал мне телефон, и я позвонила с почты в больницу Ленина доктору Раскину. Раскин сказал: «Привозите». Ехали на такси — Володя Гущин через милицию вызвал. Про Карелина я Гущину не сказала. В такси мы сидели обнявшись. Он шутил, пел, как акын, — что вижу, про то пою: «Вот ма-а-аши-на быстро едет, вот тридцатый ки-и-илометр, ой, везет ма-а-ашина пылкого любовника, ой-ой-ой, да в бе-е-лую больницу».
Мы простились в приемном покое. Чувствовал он себя прилично. Обнял меня и говорит:
— Иди, иди.
Я говорю:
— Я буду ждать.
А он говорит:
— Чего ждать-то? — Потом Раскину — Вот, Максим Семенович, это моя любимая женщина.
Я заплакала и убежала.
К нему меня не пускали. Я познакомилась с медсестрой Людой, Раскину звонила, записки ему писала все равно не пускали. А жена ходила два раза я ее видела. Не знаю, заметила меня или нет, — смотрела она прямо перед собой и вниз, и темные очки на глазах.