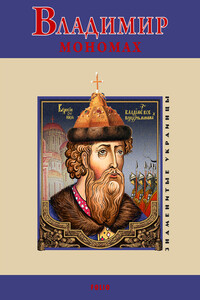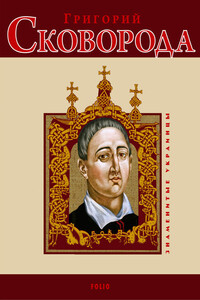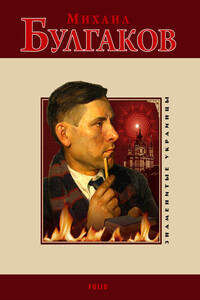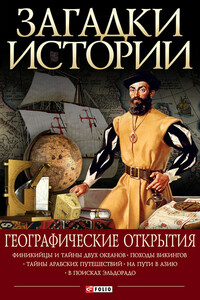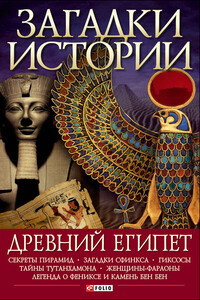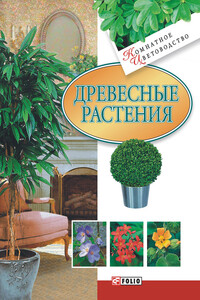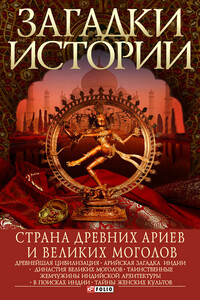Николай Амосов | страница 37
В 1955 году Н. М. Амосов основал и возглавил первую в Советском Союзе кафедру грудной хирургии для усовершенствования врачей, позже из нее выделилась кафедра анестезиологии. На этих кафедрах были подготовлены сотни специалистов – грудных хирургов и анестезиологов.
В том же году Амосов начал увлекаться кибернетикой. Он вспоминал: «Помню, как на нашей сцене появился новый персонаж с очень большими последствиями! – Екатерина Алексеевна Шкабара. От нее началась моя кибернетика – просветила, дала книжку Эшби, потом Винера, познакомила с академиком В. М. Глушковым». Екатерина Алексеевна Шкабара позже содействовала созданию для Амосова отдела биокибернетики в составе Института кибернетики. В этом отделе позже работали ученики Амосова – Касаткины, Куссуль, Талаев и другие.
Медицинская кибернетика начиналась с диагностических машин. Шкабара рассказала о перфокартах, Амосов разработал форму историй болезней, признаки болезней набивали на перфокарты, которые вставляли в машину, получали диагноз. Разумеется, до того нужно было обработать огромный статистический материал. Этим тоже занимался Амосов. Это медицинское направление кибернетики так и не сделало революции в науке – диагнозы машина ставила плохо, но польза проявилась в создании так называемой «формализованной» истории болезни, которая принесла большое облегчение врачам. В амосовской клинике такие формы применялись активно.
Весь 1957 год Николай Михайлович писал труд «Очерки торакальной хирургии». Впрочем, не только этим 1957 год был очень важен для Амосова – в январе его клиника переехала в новое трехэтажное здание. Вскоре это здание на окраине Киева (на этом месте позже вырос Институт сердечно-сосудистой хирургии) стало известно всем: здесь делали уникальные операции, возвращая к жизни безнадежных больных. Сам Амосов сделал почти шесть тысяч операций на сердце. Примерно 12 процентов пациентов с искусственным кровообращением спасти не удалось. Амосов переживал потерю каждого больного как потерю близкого человека, он считал, что ответственность за жизнь больного – его личная ответственность. Очень тяжело давались ему разговоры с родными умирающего больного. Ведь когда предлагаешь операцию, родные всегда спрашивают: доктор, а он выживет? А вдруг не выживет? Для Николая Михайловича это было пыткой. Но когда больного удавалось спасти, он просто преображался. Это тоже была его личная победа – отстоять еще одну человеческую жизнь.