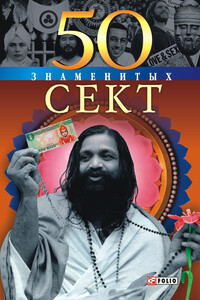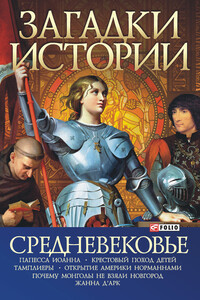Александр Македонский | страница 8
Вскоре в Коринфе прошел конгресс, на котором греки согласились со всеми условиями Филиппа II. Был оформлен союз греческих государств (за исключением Спарты), который заключил «вечный» оборонительно-наступательный договор с Македонией.
Согласно решениям конгресса, члены нового Коринфского, или Панэллинского, союза заключали между собой мир. Полисы оставались независимыми, а в отношении их государственного устройства был признан статус-кво – оно должно было оставаться таким, каким было на момент проведения переговоров в Коринфе. Неприкосновенной оставалась территория полисов. Без соответствующего разрешения в гавань города не могли заходить даже македонские корабли. Для руководства Панэллинским союзом был создан синедрион – представительный совет эллинских полисов, регулярно созывавшийся все в том же Коринфе. Главой – гегемоном – союза был признан Филипп II. Позже он получил и титул верховного, союзного главнокомандующего – стратега-автократора. Власть его была исполнительной – он имел право созывать синедрион, но не имел права голоса на совете. Полисы не должны были платить какие-либо денежные взносы в казну союза, но обязаны были предоставлять для войны контингенты в ополчение, которое формировал македонский царь. Любопытно, что полисы оформили договор с Филиппом не как с правителем Македонии, а как с представителем династии Аргеадов – потомков Геракла, почитаемого по всей Греции.
Нет сомнений, что формальная сторона дела не вполне соответствовала фактической. Подавляющее большинство решений синедриона инициировалось Филиппом. Несмотря на задекларированный принцип невмешательства во внутренние дела городов, царь навязал совету постановление, которое было выгодно в первую очередь зажиточным аристократическим кругам, на которые македонянин опирался в большей мере. Этим постановлением было решение о неприкосновенности частной собственности по всей Элладе, запрете на передел земель, запрете на кассацию долгов и отпуск рабов на волю. Нередки бывали случаи вторжения на чужую территорию македонских гарнизонов. Так что афинский оратор Ликург действительно имел полное право сказать, что с телами павших при Херонее была погребена и свобода эллинов.
Итак, с самого начала гегемонии Македонии в Элладе это верховенство обосновывалось необходимостью вести войну против Персии. Идея такой войны не была изобретением современников Филиппа и Александра, она витала в эллинском обществе практически сразу после окончания последней из греко-персидских войн в конце V века до н. э. О необходимости объединения Греции для похода против персов говорил еще Горгий в своей Олимпийской речи, произнесенной в 392 году до н. э., а затем и множество других ораторов. Подобные планы строил диктатор Ясон из Фер. Дело было, конечно, не в обиде, которую нанесли грекам персы своими нападениями в 490 или 480 годах до н. э. и не в вывезенных из Афин статуях богов и героев, на которые в свое время обращал особое внимание Александр Великий. Гораздо важнее было снять социальную напряженность полисного общества, которая все отчетливее давала о себе знать по ходу IV века до н. э. О кризисе полисного устройства в это время пишут фактически все современные историки. Имущественное расслоение, обезземеливание, настоящие гражданские войны, распри между полисами, распространение наемничества – это далеко не полный перечень характерных для того времени явлений, которые заставляли передовых общественных деятелей задуматься над возможностью экспансии на восток. Война направляла энергию масс на борьбу с внешним врагом, удаляла из Эллады деструктивные элементы, давала новые земли, расширяла сферу экономического влияния торговцев, позволяла беднякам расплатиться с долгами, а богачам набирать рабов не из сограждан, а из «варваров».