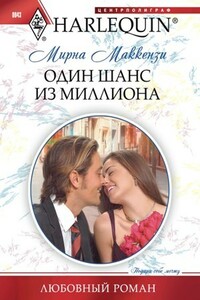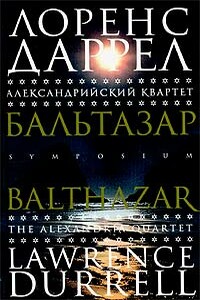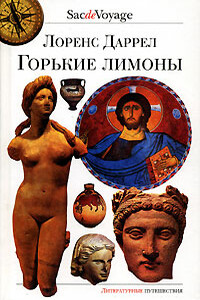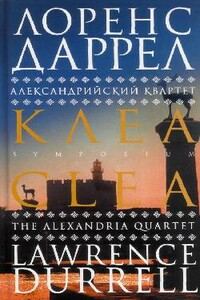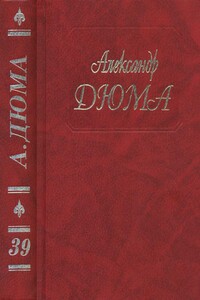Жюстина | страница 13
Я помню только, что говорил о том, как меня преследовало лицо поэта — ужасающе печальное, доброе лицо, запечатленное на его последней фотографии. И когда жены солидных горожан, оставив в длинном зале аромат своих духов, схлынули по каменной лестнице на мокрые улицы, где их ждали освещенные машины, я заметил, что общий поток забыл одну из любительниц страстей и изящных искусств. Она задумчиво сидела в глубине залы, по-мужски скрестив ноги и попыхивала сигаретой. Она не смотрела на меня — только грубо — себе под ноги. Мне польстила мысль о том, что, может быть, хоть один человек понял мои трудности. Я взял свой мокрый портфель и старый дождевик и направился вниз, где тонкие струи пронизывающего внутрь мелкого дождя проносились по улицам со стороны моря. Я шел к себе домой, где к этому времени Мелисса должна была уже проснуться и накрыть ужин на застеленном газетой столе, сперва послав Хамида к булочнику принести жаркое — у нас не было своей плиты.
Снаружи было холодно, и я перешел на другую сторону улицы Фуад, где ярко горели витрины. В окне бакалейной лавки я увидел небольшую банку консервированных оливок с надписью «Орвьето» и, захваченный неожиданным желанием оказаться на другой стороне Средиземного моря, вошел в магазин, купил ее, открыл прямо там и немедленно, сидя за мраморным столом при ужасном освещении, стал вкушать Италию, ее темную обжигающую плоть, обработанную руками весеннюю землю, освященную вином. Я чувствовал, что Мелисса никогда не сможет понять этого. Придется соврать, что потерял деньги.
Сразу я не приметил большой машины, оставленной с включенным двигателем возле бакалейной лавки, а любительница страстей вошла в магазин с быстрой и решительной внезапностью и спросила, властно — на манер лесбиянки или женщины с деньгами, работающей под бедную: «Что вы имели в виду, говоря о двойственной природе иронии?» — или что-то столь же несуразное.
Не в силах оторваться от Италии, я нагловато скосил взгляд и увидел ее, склонившуюся ко мне и трижды повторенную в зеркалах по трем сторонам комнаты. Ее темное волнующее лицо переполняла встревоженная высокомерная сдержанность. Конечно, я не помнил, что я сказал об иронии или о чем-нибудь еще. Она подавила короткий вздох — как бы вздох облегчения, и, закурив дешевую французскую сигарету, села напротив. Короткими, решительными выдохами она выпускала тонкие голубые струйки дыма в резкий свет. Она казалась мне слегка не в себе; меня смущало то, как она смотрела на меня, — так, будто решала, для каких целей я могу пригодиться. «Мне понравилось, — сказала она, — то, как вы цитировали строки, посвященные городу. У вас хороший греческий. Несомненно, вы — писатель.» Я ответил: «Несомненно». Всегда задевает, когда тебя не узнают, мне всегда претили разговоры на литературные темы. Я предложил ей оливу, которую она быстро съела и, будто публичная девка выплюнув косточку в затянутый перчаткой кулак, сказала: «Я хочу пригласить вас к Нессиму, моему мужу. Вы пойдете?»